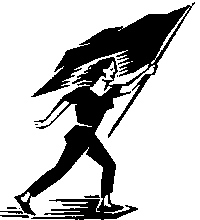[Дидывоевале! Один, Йоханнес Аньоли (22.2.1925 — 4.5.2003) сопляком призвался в итальянскую армию и воевал на стороне фашистов против югославских партизан, пока не попал в плен и не остался жить в ФРГ; другой, Йоахим Брун (30.1.1955 – 28.2.2019), будучи юным маоистом, призвался в бундесвер и до конца жизни хранил удостоверение водителя танка на случай революции. А потом, спустя десятилетия, они встретились и по-дедовски, хихикая, перетёрли о практически всём на свете: о философии, марксизме, рабочей автономии, о боге и, конечно, о социальной революции и коммунизме. Оба деда, я должен признаться, значат для меня много. Именно поэтому именно этот разговор, именно сейчас. Лично знаком я был только с Бруном, но из нашего поверхностного знакомства ничего стоящего не развилось, о чём я жалею, но мне кажется, что виной тому не мой, а «чей-то ещё» говённый характер. Как бы там ни было, дидывоевале, придётся и нам. – liberadio]
Йоахим Брун (Б.): Ленин как-то ответил на вопрос, чем должны заниматься революционеры в нереволюционные времена, мол, им необходимо упражняться в «терпении и теории». Ты же, напротив, сказал, что необходимы терпение и ирония. Не является ли это методом, пусть и в определённых рамках, приспособиться? Как получается, что ты, с одной стороны, омытый всеми водами диалектики враг государства, а, с другой стороны, тебя обхаживают все — от фонда им. Ханнса Зайделя Христианско-Социального Союза вплоть до Вальтера Момпера, настолько, что журнал «Штерн» выставил тебя на обложке выпуска, посвящённого двадцатилетию 68-го года, придворным шутом революции? Ирония возобладала над теорией? Вот так ты устроился?
Йоханнес Аньоли (А.): Почему бы и нет? То, что революционер всегда и повсюду должен ходить с угрюмой мордой, это — застарелая центарльноевропейская традиция, совершенно неподходящая к тому образу, которому должен соответствовать аутентичный революционер. Не обязательно быть иезуитом, якобинцем или большевиком просто потому, что ты собираешься разрушить государство. Настоящий революционер должен всегда сохранять какой-то остаток иронии и самоиронии. Коммунизм важен, но и оссобуко не помешает. То, что я знаком с широким спектром людей, от фонда им. Ганса Зайделя до Момпера, мне не мешает. Контакт с фондом произошёл после приглашения — и это был первый и последний раз, когда мне там были рады; а Вальтер Момпер посещал мои семинары и затем, что вполне относится к человеческой свободе, сделал из моих рассуждений неверные выводы.
Б.: Левым сейчас нужно выступить против нацоналистической склонности немцев к морализаторству и запрета курения. В конце концов, коммунизм — это не о воплощении прекрасного, истинного, хорошего принципа, а об оссобуко для всех. Но меня интересует ирония. Нея является ли она юморным вариантом скепсиса? Я помню, Эккехард Крипендорф (немецкий либертарный политолог, 1934-2018 гг. – liberadio) как-то поздравил тебя в газете «taz» словами: «Аньолисту стукнуло 60». Что ты будешь делать, если встанет вопрос об организации? Ты организуем?
А.: Нет, я не организуем. А в «taz», в общем-то, должно было ещё стоять — и если не стояло, то я это сейчас восполню, что в тот момент, когда марксизм-аньолизм, который я представляю, станет программой какой-либо группы, я тут же, так сказать, выйду из своей собственной теории. Что касается организации, то я, странным образом, всё-таки кое-что создал или помог создать: «Ноябрьское общество» и «Республиканский клуб» (организации, входившие в конце 1960-х в т.н. «Внепарламентскую оппозицию» – liberadio) в Берлине. Все остальные организации, в которых я состоял, всегда выгоняли меня через два-три года.
Б.: Ты даже в СДПГ был самоироничным членом?
А.: Да, и через три или четыре года меня снова исключили. Вступил я в 1957-м году, а в 1961-м я снова был свободен.
Б.: Как ты вообще додумался до того, чтобы стать социал-демократом?
А.: Это было нетрудно. На выборах в Бундестаг в 1957-м Аденауэр получил абсолютное большинство. А мы сидели в Тюбингене и считали, что нужно что-то предпринять против превосходящих сил ХДСГ. Так, в 1957-м я вступил с СДПГ, в 1958-м начались дискуссии о Годесбергской программе, а затем я стал членом рабочей группы в Тюбингене, целью которой была разработка антипрограммы. Тогда мы работали вместе с ССНС, существовал альянс СДПГ-ССНС. В этой группе состояла и ассистентка Эрнста Блоха, переехавшая вместе с ним из Лейпцига в Тюбинген. Мы подали наш проект программы на Годесбергском съезде партии — вместе со всеми другими проектами, включая проект программы Вольфганга Абендрота из г. Марбурга. Я, кстати, был делегатом на съезде в Годесберге. (…)
Б.: …Касательно берлинской дискуссии о правах человека у меня возникло ощущение, что ты охотно отклоняешься о твоей «основной линии». Ты сформулировал её в статье «От критики политологии к критике политики», но часто занимаешь двойственную позицию, когда ты, с одной стороны, нахлобучиваешь политологам критику политики, а с другой стороны, возражаешь как политолог тем, кто занимается критикой политики, и читаешь им лекции о наследии буржуазного Просвещения.
А.: Совершенно верно. Потому что я, в любом случае, считаю непродуктивным, когда в споре с консерватором, социал-демократом или любым другим представителем буржуазного государства аргументируют фундаменталистски. Я, скорее, придерживаюсь мнения, что необходимо сражаться оружием противника. Паушальное, категорическое, чуть ли не категориальное отрицание может помочь выйти победителем из диспута, но делу это не поможет.
Б.: Ирония как разрушение консенсуса изнутри, т.е. имманентная критика?
А.: Нет, не имманентная, а изнутри, это кое-что другое. Имманентная критика означает, что ты за систему.
Б.: Нет, имманентная в смысле Критической теории, т.е. когда нужно предположить, что в объекте содержится некий остаток объективного разума, и предположить это в виду самозащиты, как уверенность в некоем общем, которое должно защищать критика от патологии, от превращения в кверулянта. Но предполагать обладание объективной разумностью за капиталом и его государством, как это делают марксисты — это проекция, идеология…
А.: Это — противоречия… Continue reading →
 Современные конфликты между авторитарными и западными государствами не могут быть объяснены при помощи концепции империализма. Они являются частью глобальной гражданской войны, в которой стирается грань между внешней и внутренней политикой.
Современные конфликты между авторитарными и западными государствами не могут быть объяснены при помощи концепции империализма. Они являются частью глобальной гражданской войны, в которой стирается грань между внешней и внутренней политикой.