Изабелла Табаровски, май 2019
Введение
В 1985 году Антисионистский комитет советской общественности (АКСО), находившийся под контролем КГБ, выпустил брошюру «Преступный союз сионизма и нацизма». В брошюре сообщалось о пресс-конференции, которую комитет провёл несколькими месяцами ранее. Место проведения пресс-конференции — пресс-центр Министерства иностранных дел СССР — свидетельствовало об официальном одобрении сообщений, которые должен был донести АКСО. Брошюра была переведена на английский язык и распространена за рубежом информационным агентством «Новости», важным инструментом советской внешней пропаганды.
Эта брошюра, являющаяся пропагандистским документом, освещающим пропагандистское мероприятие, рисовала мрачный образ сионизма. Старшие члены АКСО, большинство из которых были видными советскими евреями (намеренный выбор со стороны КГБ, призванный отвести обвинения в антисемитизме), утверждали, что у них есть неопровержимые доказательства сотрудничества сионистов с нацистами. Они описывали сионистов как содействующих нацистскому экспансионизму, обвиняли их в ложном преувеличении значимости антисемитизма и еврейского жертвенного опыта во Второй мировой войне и утверждали, что соглашение 1930-х годов, разрешавшее переселение 60 000 немецких евреев в Палестину, «облегчило нацистам развязывание Второй мировой войны». Они утверждали, что сионисты были соучастниками «геноцида славян, евреев и некоторых других народов Европы». В заключение ораторы заранее отвергли любые попытки «просионистской прессы» представить утверждения комитета как антисемитские, отделили сионистов от евреев и пообещали, что сионизм никогда не сможет опровергнуть «историческую реальность» сотрудничества между сионистами и нацистами.
Брошюра могла бы восприниматься как шокирующая клевета, искажающая историю, если бы она не была неотъемлемой частью массивной советской антисионистской кампании, которая вступила в особо активную фазу в 1967-го году. Её язык отражает эпоху, отмеченную напряжённостью холодной войны, пропагандистским жаргоном, пронизывавшим все аспекты советской общественной жизни, и яростной демонизацией Израиля и сионизма. Предполагаемое сотрудничество сионистов и нацистов и ложное приравнивание этих двух явлений были одними из центральных элементов кампании.
Разработанная КГБ и контролируемая главными идеологами Коммунистической партии, эта кампания достигла многочисленных успехов. Для значительной части внутренней и части внешней аудитории она успешно лишила сионизм его значения как национально-освободительного движения еврейского народа и ассоциировала его с расизмом, фашизмом, нацизмом, геноцидом, империализмом, колониализмом, милитаризмом и апартеидом. Она способствовала принятию печально известной резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН 1975 года, в которой сионизм был признан формой расизма, что открыло путь к демонизации Израиля в рамках этой организации.
В ходе кампании в СССР были опубликованы сотни антисионистских и антиизраильских книг и тысячи статей, которые тиражировались в стране миллионными тиражами. Многие из них были переведены на иностранные языки – английский, французский, немецкий, испанский, арабский и многие другие. Только в 1970-м году сравнение между предполагаемым сионистским и нацистским расизмом — лишь одним из многочисленных мемов кампании — заслужило 96 упоминаний (Pinkus 1989:256). Демонизация сионизма продолжалась в фильмах, лекциях и радиопередачах.Антисионистские карикатуры, многие из которых носили явно антисемитский характер, регулярно появлялись в советских изданиях.
Archives
Нигилизм: ложь на службе существующего
Уильям Гиллис
Говорить о нигилизме, а тем более пытаться его определить и критиковать, — это изнурительная задача, сродни разговору с озорным ребёнком, который выучил несколько пустых однословных ответов, заставляющих взрослого ходить кругами. И при этом есть риск серьёзного переутомления от постоянного закатывания глаз, необходимого для ведения подобной дискуссии. Большинство из нас понимает, что пытаться обсуждать или критиковать нигилизм — значит проиграть с самого начала. Точно так же, как кормить троллей — это игра, совершенно не имеющая отношения к искреннему сравнению и сотрудничеству в области идей. И всё же полное отстранение от этой темы невозможно.
Что нам делать, когда бывшие друзья или любовники начинают верить в такую бессмысленную чепуху, а потом как-то шокируются нашим отвращением? Не нужно далеко ходить, чтобы найти кипящее презрение к нигилизму в радикальных кругах, и всё же те, кто называют себя «нигилистами», выражают его лишь презрением или насмешками в мемах. Мы просто группируемся отдельно друг от друга. Индивидуально разумно отказываться втягиваться в это, но в конечном итоге это непрактично в целом. Время от времени кто-то должен надеть защитный костюм и убирать за троллями их дерьмо. И поэтому время от времени стоит повторять, какой чушью является нигилизм.
Я имею в виду основную идею нигилизма и то, как она используется на практике. Я не хочу тратить время на обсуждение точных контуров мягкой академической моды в континентальных кругах, или исторической сноски о давно умерших русских революционерах 19-го века и некоторых остатках поэзии, или обширного круга бывших анархистов, которые все вместе выгорели в конце 2000-х и пытались преподнести отчаяние как некую модную эстетику. Я имею в виду, что я буду говорить о них, у меня есть готовые эссе, отвечающие на их конкретные вопросы. Но всё это настолько скучно, такая тягомотина. И большая часть мнимых забот упомянутых групп не имеет никакого отношения к реальной проблеме нигилизма. Позволяя им устанавливать условия дискуссии, мы уклоняемся от реальной сути их основной провокации, и то, что в ней так пагубно, продолжает распространяться и гнить. Поэтому, прежде чем вникать в эти детали, я думаю, что стоит сначала рассмотреть — относительно беспристрастно и без полемики — то, что я и многие другие считаем столь неприемлемым в нигилизме. Что на самом деле вызывает эту ярость и недоверие. Конечно, быть откровенным и честным — не самый эффективный способ играть в игру, в которую играют большинство нигилистов, и, к сожалению, такой подход гораздо менее увлекателен, чем просто говорить всякую чушь, но я надеюсь, что вы всё равно продолжите читать дальше.
Continue readingИсламо-гошизм. Рассказ о токсичных отношениях
Михаэль Фишер
В феврале 2021-го года министр высшего образования Франции Фредерик Видаль непреднамеренно вновь ввёл в публичный дискурс термин «исламо-гошизм», впервые предложенный Пьером-Андре Тагиеффом в 2002-м году. Тагиефф, известный прежде всего своими работами о французском правом экстремизме и расизме, использовал этот термин более двадцати лет назад для описания «сближения, если не сказать боевого союза, между радикальными левыми движениями и исламистскими движениями во имя палестинского дела, возведённого в ранг великой революционной цели». (1) Он имел в виду совместную мобилизацию во время Второй интифады, когда левые не обращали внимания на крики «Аллах Акбар» или призывы к уничтожению Израиля, поскольку придерживались гностического, глобализированного антисионизма, «который служит методом спасения и обещанием искупления — уничтожить Израиль, чтобы спасти человечество». (2)
Во время ток-шоу, в котором Видаль рассуждал о секуляризме, ведущий, Жан-Пьер Эль-Каббач, выразил подозрение, что во французских университетах материализуется альянс между Мао Цзэдуном и аятоллой Хомейни. «Вы абсолютно правы», — ответил министр. Видаль реалистично заклеймил политических левых как полезных идиотов джихадистов и пообещал начать расследование разрушительного влияния исламо-гошизма в университетах. Как и ожидалось, критики отвергли всё это как явную предвыборную тактику, направленную на привлечение крайне правых избирателей. «Они отрицают, что между левыми и исламистами существует что-либо, напоминающее этот альянс. Они говорят, что это иллюзия, культивируемая политической оппозицией» (3). Сэр Джон Дженкинс лаконично резюмировал реакцию левых на откровение очевидного. По мнению бывшего дипломата, левые и исламские движения разделяют общее мировоззрение, которое выходит далеко за рамки простой тактики, выражаясь в противостоянии современному либеральному и демократическому порядку и достигая кульминации в общей враждебности к Израилю и евреям. На практике этот альянс в настоящее время проявляется еженедельно в форме антисионистских массовых маршей в крупных западных городах, но ещё в 1978-м году Мишель Фуко в своих репортажах о надвигающейся исламской революции в Иране восторженно отзывался об Али Шариати, который во время учёбы во Франции стремился к сближению с христианскими левыми и немарксистскими социалистами, и чьё имя «выкрикивалось наряду с именем Хомейни [sic] на массовых демонстрациях в Тегеране». (4) Шариати, ведущего идеологического архитектора Исламской Республики, ошибочно считают объединителем Маркса и ислама, хотя на самом деле он недвусмысленно заявил: «Ислам и марксизм оказались совершенно несовместимыми во всех областях политики, экономики, этики и социальных проблем». (5) По мнению Шариати, марксизм, основанный на безбожном материализме, разделяет все недостатки Запада, откуда он и происходит. Другие, такие как Джудит Батлер, пошли ещё дальше и объявили ХАМАС и «Хезболлу» частью глобального левого движения из-за их антиимпериалистической направленности. Смелый тезис, который непреднамеренно обнажает современный характер левых и, по идее, должен побудить постмодернистского интеллектуала переосмыслить национал-социализм: по словам историка Дэвида Мотаделя, Берлин во время Второй мировой войны был «центром антиимперской революционной активности» (6), привлекая антиколониальных лидеров из Индии, Аравийского полуострова, Ирландии и Центральной Азии. Почти десять лет назад Петер Шефер и Таня Таббара, выступавшие за критический диалог с умеренными представителями политического ислама в брошюре для Фонда Розы Люксембург, безусловно, также были тяготеют к антиимпериализму. Они нашли партнёра по дискуссии в лице Карима Садека, который, с этой целью, сделал тунисских «Братьев-мусульман» приемлемыми для них. Они оправдывали свой самоотверженный подход, утверждая, что «умеренные исламисты и левые действительно разделяют общие ценности, особенно в вопросах социальной справедливости, на основе которых возможен критический диалог» (7).
Continue readingОтвечая на фашистский органайзинг
Уильям Гиллис, 2018
Великий экономист и ранний антигосударственник Бастиа указывал на то, как часто наше внимание привлекается к самому непосредственному, упуская из виду более широкий спектр последствий и причин. Благодаря такой близорукости и процветает современный статизм, заслоняя угрозу полицейского пистолета и взмаха его дубинки, так что предлагаемый налог, например, вырывается из контекста и превращается в инертную, послушную вещь.
Веками упорной борьбы за прогресс общество все больше и больше отвращается от насилия и явных актов доминирования. Невозможно преуменьшить значение этого достижения. И всё же наши правители компенсировали это не уменьшением жестокости, а её затушевыванием. Любой социопат интуитивно знает, как использовать пределы человеческого внимания, используя сложную маскировку. То, что видно — это политик, стоящий перед обожающей его толпой, то, что может остаться незамеченным — это жестокость, от которой зависит его политика, угроза, которую он неявно озвучивает.
Общество может казаться мирным и идиллическим, а акты жестокости не только незаметны, но и полностью отсутствуют, и все же «этот мир» – результат угрозы невероятного насилия. Если граждане тоталитарного режима не сопротивляются, не подвергаются репрессиям, а просто покорно смиряются, было бы неправильно говорить об отсутствии насилия или агрессии. И всё же особенно бюрократическая душа может оглядеться вокруг и отвергнуть требования угнетённых, может потребовать, чтобы они положили свои тела на кон, чтобы сделать видимой скрытую угрозу государства, и даже тогда оспорить, что данных недостаточно. Могут потребовать, чтобы их тела складывали все выше и выше, чтобы «доказать» систематический характер угрозы. И не дай бог, чтобы угроза была отложена, чтобы обещание было дано за годы до грядущего насилия. Когда неявная, но очень чёткая угроза звучит так: “Мы убьём тебя и всю твою семью. Не сегодня. Но скоро. Как только наша власть закончит расти. Сопротивляйтесь сейчас и умрите тогда”.
Такой насильственный «мир» не является исключительно продуктом государства. Он проникает в человеческие дела на всех уровнях. Он формирует и искажает наше общество, нашу экономику. Бандиты на улицах, чьи кражи терпят, даже делают невидимыми, не обращая внимания на них, потому что угроза воспринимается как непреодолимая. «Проход мимо, н…р», в котором содержится взаимно понимаемая коллективная угроза, слово резонирующее и режущее, за которым стоят столетия линчеваний и избиений, но его значение можно отрицать в одно мгновение. «Откуда ты знаешь, что я имел в виду именно угрозу?» – и вспышка белых зубов у собеседника. Такое неявное насилие становится дробным, взаимозаменяемым. Не каждое употребление расового эпитета содержит его в полной мере, но часто они обмениваются смягчённой возможностью насилия. Что такое 1/200 часть угрозы линчевания или избиения? Насилие пронизывает наш мир, оно течёт незаметно по сложным цепям, накапливается в безмолвных, но огромных резервуарах, перестраивая и ограничивая возможное.
Continue readingФред Хэллидей: Левые и джихад
6 апр. 2011 г.
Приближающаяся пятая годовщина терактов 11-го сентября в США подчёркивает проблему, которая сегодня широко распространена в мире, но которой уделяется слишком мало исторически обоснованного и критического анализа: взаимоотношения между воинствующими исламскими группировками и левыми.
Очевидно, что эти теракты, как и другие, произошедшие до и после них, на США и их союзников по всему миру, принесли ответственным исламистским группам значительную симпатию далеко за пределами мусульманского мира, в том числе и среди тех, кто с самых разных идеологических позиций яростно выступает против основных проявлений их силы. Однако поразительно, что за столь часто инстинктивной реакцией наблюдаются признаки гораздо более развитого и политически выраженного согласия во многих частях мира между исламизмом как политической силой и многими левыми группами.
Последние, судя по всему, рассматривают некую комбинацию «Аль-Каиды», «Братьев-мусульман», «Хезболлы», ХАМАС и (не в последнюю очередь) президента Ирана Махмуда Ахмадинежада как пример новой формы международного антиимпериализма, соответствующей – и даже дополняющей – их собственный исторический проект. Это мнимое объединённое движение может восприниматься подобными левыми группами и интеллектуальными течениями как нечто, стеснённое «ложным сознанием», но это не умаляет их стремления «объективно» поддерживать или хотя бы потакать им.
Тенденция очевидна. Так, венесуэльский лидер Уго Чавес летит в Тегеран, чтобы обняться с президентом Ирана. Мэр Лондона Кен Ливингстон и активный член британского парламента от партии «Респект» Джордж Гэллоуэй приветствуют визит в город египетского священнослужителя (и номинального лидера «Братьев-мусульман») Юсуфа аль-Кардави. Многие представители левых фракций (и не только), выступавшие против надвигающейся войны в Ираке, не стеснялись в своих союзах с радикальными мусульманскими организациями, которые с тех пор переросли из тактического сотрудничества в нечто гораздо более продуманное. Интересно наблюдать, например, в публикациях левых групп и комментаторов, как переписывается история и как язык политических аргументов подстраивается под (так сказать) это новое соглашение.
Последнее проявление этой тенденции проявилось во время ливанской войны в июле-августе 2006-го года. Боевик из страны Басков, которого я видел, размахивал жёлтым флагом «Хезболлы» во главе марша протеста, – лишь малая часть гораздо более масштабного явления. Лондонские демонстранты, протестующие против войны, видели множество транспарантов с лозунгами «Теперь мы все – “Хезболла”», а освещение движения в левой прессе отличалось некритичным тоном.
Continue readingГустав Ландауэр: «Два мартовских дня» (1909)
День памяти Немецкой революции 1848/49-х гг. и последнего значительного революционного эпизода Западной Европы, Парижской коммуны 1871-го года, празднуется в Германии по причине случайного совпадения дат — 18-е марта в Берлине, 18-е марта в Париже — совместно. То печальное, присущее всем таким памятным датам, особенно у нас в Германии, несмотря на всю прекрасную благодарность, часто проявляющуюся в таких случаях в самых трогательных формах, усугубляется ещё больше: безучастные урывками греются в близи активных; мелкие живые используют великих или отважных мертвецов как постамент, дабы в течение дня казаться самим себе больше; часто устраивается просто обобщённый и сентиментальный культ павших там, где были бы причины сделать из прошлого то, чем оно и должно для нас являться: путеводителем.
18-е марта 1848-го года — лишь небольшой этап великого движения, которое вполне должно бы называться не только «1848», но «1848/49», и простиравшегося всю Германию. Более важен, чем уличные сражения в Берлине и Вене со всеми их героическими эпизодами, и куда более важен, чем словесные перепалки во Франкфуртском имперском парламенте, тот факт, что тогда по всей Германии, в каждом городке и в каждой деревне происходили сражения против политического и общественного феодализма. Ещё слишком мало интересуются наши историки локальной историей революции 1848/49-х годов; слишком мало ещё установлено, что было упразднено реального, что реального было достигнуто в отдельных местностях горожанами и крестьянами в этих бесчисленных схватках, которые были в первую очередь не борьбой против личностей, но борьбой против вещей и учреждений.
Continue readingОт Вагнера до Вилана
[Вот, антисемитизм спокойной совести и стал мэйнстримом, ушлые бородачи смогли хакнуть сердобольных и обожающих страдания интерсек-леваков по всему миру. 11-го сентября 2001-го года открыто радоваться исламистскому террору, кроме нескольких фашистов-говноедов и ахнутых на всю голову троцкистов, никто не решался. Сегодня все перестали стесняться своего говноедства, они просто называют его “антисионизмом”. С чем я нас всех и поздравляю. –
liberadio]
Бен Коэн
Изображение евреев как нежелательных интервентов в создании и оценке искусства (потому что их подлый, узколобый, эгоцентричный дух противостоит художественному величию) живёт и процветает.
«Еврей никогда не возбуждается у нас просто из сентиментальных побуждений. Если он и возбуждается, то лишь из-за каких-то особых и эгоистических интересов».
— Рихард Вагнер, «Еврейство в музыке», 1850
«Я работал на звукозаписывающей компании, и это забавно, потому что мы часто общались с её боссом, и он очень активно говорил о своей поддержке Израиля. Он переступал эту грань. А потом недавно появился список имён людей, пытавшихся помешать нашим друзьям из Kneecap выступить здесь сегодня вечером. Кого я вижу в этом чёртовом списке, как не того лысого ублюдка, на которого я, блядь, работал? Так что, смотрите, мы всё это перепробовали: от работы в барах до работы на чёртовых сионистов».
— Боб Вилан, выступление на сцене фестиваля Гластонбери, 2025
Почти двести лет разделяют Рихарда Вагнера, немецкого композитора, совершившего революцию в опере, и Боба Вилана, музыкального дуэта из английского города Ипсвич, который сейчас пытается возродить дух панк-рока. Можно задаться вопросом, что Вагнер и Вилан делают в одном предложении, учитывая огромную историческую и музыкальную разницу между ними, не говоря уже о том ужасе, который, несомненно, охватил бы Вагнера, если бы он оказался в одном контексте с двумя чернокожими мужчинами с дредами.
Я попытаюсь объяснить.
Вагнер, как широко известно, был убеждённым антисемитом.
Continue readingОпределение IHRA, институциональный антисемитизм и Витгенштейн
После выхода отчёта EHRC (Equality and Human Rights Commission)об антисемитизме в Лейбористской партии Великобритании в адрес определения антисемитизма, данного IHRA, было высказано множество претензий. Две основные претензии критиков заключаются в том, что, во-первых, определение не говорит нам точно и конкретно, какие люди, язык, действия и практика являются антисемитскими; и, во-вторых, что оно подавляет свободу слова. Философ Иви Гэррард объясняет, почему первое из этих возражений верно, но не имеет отношения к делу, а второе — не верно вообще.
Об определении
Дать определение антисемитизму нелегко. Его изменчивая природа гарантирует, что трудно найти определение, достаточно сложное, чтобы соответствовать его долгой и кровавой истории. Поэтому совершенно верно, что определение IHRA не даёт нам философски удовлетворительного отчёта об антисемитизме. Философская охота за необходимыми и достаточными условиями для того, чтобы объект или явление подпадали под определяемый термин, – дело, как правило, очень долгое. Кроме того, довольно часто она оказывается неудачной. (Термин «знание», столь центральный в практике философии, является, пожалуй, самым ярким и, конечно, весьма спорным примером).
Ещё в прошлом веке философ Людвиг Витгенштейн серьёзно возражал против такого подхода к определениям. Он указал, что для некоторых понятий просто не существует необходимых и достаточных условий для их использования — то есть нет существенных признаков, наличие которых гарантирует, что понятие применимо, а отсутствие — что нет. В качестве примера он привёл идею игры — термин, который все носители английского языка могут использовать правильно и без усилий. Но нет никаких необходимых и достаточных условий для его правильного использования: идея игры охватывает очень широкий спектр деятельности, но нет общей сущности, которой обладают все игры. И так происходит со многими нашими понятиями. Нет такой черты, которой обладали бы все случаи антисемитизма и которой не обладало бы ничего, что не является антисемитизмом. Но есть много черт, которыми обладают многие случаи антисемитизма, и много других черт, которыми обладают другие случаи, и между ними есть много пересечений. Мы можем привести несколько центральных случаев и использовать их для освещения более периферийных. (1) Для некоторых понятий это лучшее, что мы можем сделать с помощью определения. Вот как определение IHRA трактует антисемитизм.
Continue readingПлохие люди
Неискупимые индивиды и структурные стимулы
Уильям Гиллис, 2020
Вопреки утверждениям некоторых левых, на самом деле существуют совершенно чудовищные люди, которые не являются просто жертвами своих социальных условий. Люди различны. Каждый из нас идёт по несколько случайному пути в развитии своих ценностей и инстинктов, подгоняемый миллионом крошечных крыльев бабочек контекста, который невозможно контролировать или предсказать.
Сотня клонированных детей с идентичными генами, получивших идентичную любовь и воспитание, тем не менее столкнётся с моментами неопределённости, когда нужно будет наугад выбрать гипотезу или стратегию из возможных и её придерживаться, проверяя различные модели и ценности. Тенденции, конечно, проявляются в совокупности, но у них есть исключения. Иногда эти исключения сами являются совокупным явлением. Подход, который стабилен, когда его принимает 99% населения, тем не менее, трудно сохранить стабильным при 100%, когда случайные одиночки-перебежчики видят достаточное вознаграждение, чтобы появиться вновь. Теория игр показывает, что, хотя сострадание и взаимопомощь широко распространены в определённых средах, это часто сопровождается появлением устойчивых мелких тенденций паразитов и хищников на периферии, с разной степенью сложности. Большинство популяций стабилизируется благодаря сочетанию индивидуальных стратегий. Кроме того, жизненный путь индивида не только формируется под влиянием случайных условий, которые невозможно контролировать, но и требует определённой доли случайности в его личных исследованиях. К сожалению, существуют определённые перспективы, которые, будучи достигнутыми, агрессивно отгораживаются от дальнейшего рассмотрения, адаптации или мутации.
В самом гармоничном и просвещённом сообществе, в самой развитой культуре, в самом эгалитарном и справедливом мире все равно найдутся жестокие и бессердечные, манипуляторы и любители жестокости. Те, для кого другие люди — это не продолжение их собственного существования, но объекты, которые можно угнетать или использовать. Число этих монстров можно резко сократить с помощью различных институциональных и культурных изменений, но полностью подавить их появление невозможно. И они неизменно будут использовать любые доступные им средства и инструменты для причинения вреда другим и захвата власти.
Плохие люди всегда будут существовать. Continue reading
Л. Кофлер: Умственная деградация и магическая религиозность (1981)
[И ещё раз о (постмодернистском) разжижении мозга, вербальной магии и прочих формах «атеистической духовности». Если вы не узнаёте в болтовне об идентичностях, о напр. женских душах, рождённых в мужских телах, и прочих divine self старую добрую эзотерику и прочий New Age с соответствующим религиозным пылом, то вы слишком долго изучали глупости Батлер в универе и помочь вам уже никто не в состоянии. – liberadio]
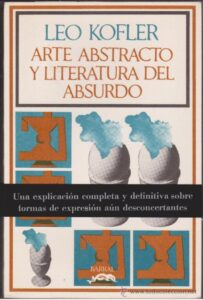 В «Брокгаузском разговорном лексиконе» от 1898-го года, основная позиция которого склоняется к либерализму, буржуазно-либеральный скептицизм по отношению ко всем религиям выражается следующим образом: «Но поскольку то, что составляет истинную веру, очень различно у разных народов и в разные времена, то, что для другого является истинной верой, для одного кажется суеверием». В этом высказывании размывается разница между религией и суеверием. Научное требование строгого разграничения терминов в смысле сути определения здесь не выполняется.
В «Брокгаузском разговорном лексиконе» от 1898-го года, основная позиция которого склоняется к либерализму, буржуазно-либеральный скептицизм по отношению ко всем религиям выражается следующим образом: «Но поскольку то, что составляет истинную веру, очень различно у разных народов и в разные времена, то, что для другого является истинной верой, для одного кажется суеверием». В этом высказывании размывается разница между религией и суеверием. Научное требование строгого разграничения терминов в смысле сути определения здесь не выполняется.
Религию следует определять как отношения, основанные на вере в существование высшего, миросозидающего существа, между этим божественным существом и субъектом, который, согласно его самовосприятию, сосредоточен на себе, в результате чего последний надеется на что-то от этого существа для своего благополучия и спасения. В этом определении важным остаётся то, что все посредничества между верующим и Богом, происходящие из земной, профанной сферы жизни, интеллектуально пропускаются, и устанавливается прямая связь между ними. Существенное различие между религией и магической псевдорелигиозностью проявляется именно в том, что в последнем (как и в прошлом в анимизме, магии и колдовстве вплоть до некромантизма, экзорцизма и веры в ведьм) искажение и фальсификация метафизической чистоты божественного происходит за счёт того, что для достижения цели спасения используются профанные средства, взятые из земной сферы. Фальсификация заключается в том, что из-за этого посредничества земных сил и средств само божественное оказывается втянутым в осквернение земного и частично или полностью обезбоженным.
За исключением первобытного периода развития человечества и последующей эпохи, предшествующей монотеизму, суеверия затрагивают значительные слои населения там, где неуверенность и угроза жизни заставляют человека отстраниться от традиционной религиозности и обратиться к непосредственно возникающим иррациональным средствам. Наиболее распространенным явлением такого рода является астрология. Однако астрология не подходит для того, чтобы взять на себя магическую роль, к которой часто сознательно или бессознательно стремятся, поскольку на созвездие небесных звёзд нельзя повлиять, даже внешне, с помощью каких-либо обрядов, придуманных человеком. Таким образом, существуют две основные формы суеверного псевдорелигиозного поведения: во-первых, та, которая характеризуется простым ожиданием событий, происходящих совершенно независимо от человека, наиболее ярким примером которой является астрология; во-вторых, существует большое количество псевдорелигиозных тенденций, заключающихся в том, что суеверный человек пытается повлиять на определённые события в свою пользу более или менее иррациональным, то есть магическим, способом, чтобы обеспечить ожидаемый успех. Мы рассматриваем здесь в первую очередь эту вторую форму псевдорелигиозного поведения, которую можно наблюдать сегодня, причём нас интересует не столько систематическое описание соответствующих форм, сколько социолого-теоретическая интерпретация общей магической тенденции в современном обществе.
По Марксу, все без исключения религиозные явления, как религиозные, так и псевдорелигиозные, имеют ту общую черту, что являются идеологическим выражением — как говорит Маркс — «угнетённой твари», то есть возникают из чувства человека, который считает себя угнетённым природой или обществом. Следует добавить, что для монотеистической эпохи, но особенно для «просвещённого» буржуазного периода истории, поворот к чисто абстрактной — абстрактной в смысле современной теологии — концепции единого Бога означает резкое и радикальное противостояние всем магическим тенденциям; это независимо от того, что магические остатки очень часто можно наблюдать в практике монотеистической религиозной практики. Это противопоставление подлинной и магической религиозности имеет большое значение для социологического вопроса, поскольку на его основе можно показать, что, особенно в периоды социальных и культурных кризисов, тенденция к распространению магической псевдорелигиозности за счёт подлинной религиозности возрастает наиболее сильно. Continue reading