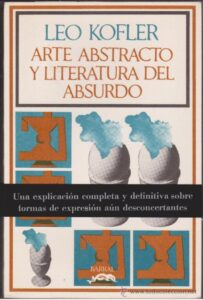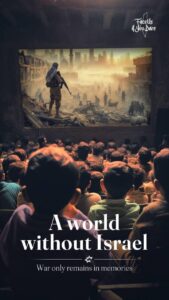Лео Кофлер
В своих ранних работах Маркс указывает на ту важную роль, которую буржуазный мир мысли играет в структуре современного классового общества. С одной стороны, буржуазная мысль представляет собой реальную силу, необходимое средство для поддержания господства класса капиталистов, которое действует во всех направлениях. Это легко создаёт видимость того, что социальные отношения и дифференциации обусловлены исключительно интеллектуальными факторами. Но, с другой стороны, эта видимость остаётся лишь видимостью, поскольку за ней стоят реальные, экономические и социальные отношения господства и эксплуатации, исчезновение которых является единственной предпосылкой для исчезновения этой видимости, господствующей над всем обществом. Маркс комментирует это: «Вся эта видимость, будто господство определённого класса есть только господство определённых мыслей, естественно, прекращается сама собой, как только прекращается вообще господство классов».
Тем не менее, эта претензия на то, что классовое правление по сути своей является мыслью — и притом возвышенной — представляет собой серьёзную проблему, поскольку господство над умами позволяет возвеличить капиталистическое государство, отказаться от принуждения и удерживать общество исключительно с помощью разума; в этом, как будет показано, есть доля истины, даже если эта истина, правильно понятая и раскрытая, разрушает славу и обнажает голый эгоизм правителей. Для начала ознакомимся с концепцией Маркса о той роли, которую он отводит фактору разума в процессе закрепления господства одного класса над другим: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть вместе с тем и его господствующая духовная сила».
Здесь важно отметить, что, несмотря на равенство всех эпох, Маркс проводит существенное различие между средневековым феодальным и буржуазным эмансипированным государством. Если феодальное государство, чтобы выполнять возложенные на него как на государство задачи, всегда должно прибегать к открытому принуждению, то в условиях буржуазной эмансипации принуждение уступает своё первенство провозглашённой свободе и равенству, а значит, и духу. Иными словами, оставляя за собой сферу эгоистических интересов, как показывает Маркс в «Еврейском вопросе», и тем самым оставляя слабые классы на милость собственников, буржуазное государство, чтобы иметь возможность подтвердить свою «небесную» функцию классового государства, вроде бы служащего только равенству и свободе, требует духа, который заставляет фактическое неравенство и несвободу исчезнуть под видимостью этого равенства и свободы. Принуждение не исчезает, но элегантно отходит на второй план, с поклоном духу, который в условиях, ставших непрозрачными и мифическими для слепого сознания, лучше, чем принуждение, знает, как привести человека в чувство; принуждение остаётся в резерве, а именно «на все случаи жизни», которые, однако, не перестают реализовываться.
То, что буржуазный разум обладает такой силой, объясняется не только вышеупомянутой непрозрачностью капиталистического процесса, но и самим фактом формальной эмансипации, который резко подчёркивал Маркс и который, не затрагивая классовых отношений, предоставляет человеку формальное равенство и свободу и даже (с таким трудом завоёванные!) определённые политические права. Поэтому то, что Маркс говорит о роли мысли, разума господствующего класса, особенно применимо к буржуазному государству:
«Класс, имеющий в своём распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчинёнными господствующему классу. Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения … это, следовательно, мысли его господства. … поскольку они (индивиды правящего класса) господствуют также и как мыслящие, как производители мыслей; они регулируют производство и распределение мыслей своего времени; а это значит, что их мысли суть господствующие мысли эпохи».
В условиях буржуазного индивидуализма и формализма его «равенство и свобода», дух, претендующий быть ничем иным, как духом этого равенства и свободы, и поддерживаемый в этом реальной видимостью существования такого равенства и свободы, может стать совершенно иным средством власти для правителей, регулирующих его «производство и распределение», чем во времена, когда «корпоративная» дифференциация людей открыто встаёт на точку зрения их различий и столь же открыто использует принуждение, чтобы сделать эти различия очевидными, как «предначертанные Богом». Таким образом, роль духа в современных условиях изменилась. На этот факт необходимо обратить более пристальное внимание. Continue reading →