Уильям Гиллис
Говорить о нигилизме, а тем более пытаться его определить и критиковать, — это изнурительная задача, сродни разговору с озорным ребёнком, который выучил несколько пустых однословных ответов, заставляющих взрослого ходить кругами. И при этом есть риск серьёзного переутомления от постоянного закатывания глаз, необходимого для ведения подобной дискуссии. Большинство из нас понимает, что пытаться обсуждать или критиковать нигилизм — значит проиграть с самого начала. Точно так же, как кормить троллей — это игра, совершенно не имеющая отношения к искреннему сравнению и сотрудничеству в области идей. И всё же полное отстранение от этой темы невозможно.
Что нам делать, когда бывшие друзья или любовники начинают верить в такую бессмысленную чепуху, а потом как-то шокируются нашим отвращением? Не нужно далеко ходить, чтобы найти кипящее презрение к нигилизму в радикальных кругах, и всё же те, кто называют себя «нигилистами», выражают его лишь презрением или насмешками в мемах. Мы просто группируемся отдельно друг от друга. Индивидуально разумно отказываться втягиваться в это, но в конечном итоге это непрактично в целом. Время от времени кто-то должен надеть защитный костюм и убирать за троллями их дерьмо. И поэтому время от времени стоит повторять, какой чушью является нигилизм.
Я имею в виду основную идею нигилизма и то, как она используется на практике. Я не хочу тратить время на обсуждение точных контуров мягкой академической моды в континентальных кругах, или исторической сноски о давно умерших русских революционерах 19-го века и некоторых остатках поэзии, или обширного круга бывших анархистов, которые все вместе выгорели в конце 2000-х и пытались преподнести отчаяние как некую модную эстетику. Я имею в виду, что я буду говорить о них, у меня есть готовые эссе, отвечающие на их конкретные вопросы. Но всё это настолько скучно, такая тягомотина. И большая часть мнимых забот упомянутых групп не имеет никакого отношения к реальной проблеме нигилизма. Позволяя им устанавливать условия дискуссии, мы уклоняемся от реальной сути их основной провокации, и то, что в ней так пагубно, продолжает распространяться и гнить. Поэтому, прежде чем вникать в эти детали, я думаю, что стоит сначала рассмотреть — относительно беспристрастно и без полемики — то, что я и многие другие считаем столь неприемлемым в нигилизме. Что на самом деле вызывает эту ярость и недоверие. Конечно, быть откровенным и честным — не самый эффективный способ играть в игру, в которую играют большинство нигилистов, и, к сожалению, такой подход гораздо менее увлекателен, чем просто говорить всякую чушь, но я надеюсь, что вы всё равно продолжите читать дальше.
С самого начала следует отметить, что в самой идее нигилизма есть своего рода защитное противоречие, которое сразу же становится очевидным, когда вы пытаетесь прояснить: «Что именно означает `бессмысленный`?». Выход из положения очевиден: нигилист может просто бесконечно повторять слова «это ничего не значит» по поводу всего, включая свои собственные утверждения. Разговор с таким Бартлби подобен нажатию кнопки на пешеходном переходе, поэтому я начну с более привлекательного нигилизма, готового высказываться в более или менее рациональных терминах. В таком контексте, я думаю, наиболее содержательным определением «бессмысленного» является ситуация, когда что-то является абсолютно симметричным, указывая во всех направлениях, на все возможные интерпретации, модели или ценности в равной степени (включая несогласованные), и, таким образом, не передавая ничего. Другими словами, совершенно нечёткая, без структуры, сродства, направления или склонности. И, следовательно, без содержания. Бесформенная, «безразличная», как лаконично выразился редактор Hostis, «к какому-либо конкретному способу».
С учётом этой подсказки я бы лично сформулировал наиболее распространённую форму нигилизма следующим образом: представление о том, что при максимально внимательном рассмотрении или максимальном охвате топология возможных ценностей/желаний не имеет чётких универсальных аттракторов или потоков.
Я понимаю, что здесь используются термины и понятия (например, «топология»), которые не входят в жизненный опыт некоторых людей, но я считаю, что это необходимо для большей точности. И обратите внимание, что слово «ценности» можно заменить словом «модели», чтобы получить полноценный эпистемологический нигилизм, а не просто нигилизм ценностей. Но настоящий полноценный эпистемологический нигилизм — это когда вы просто начинаете бросаться предметами в своего собеседника, потому что дальнейшее обсуждение невозможно. К тому же, как бы они ни утверждали, на самом деле никто не верит в эпистемологический нигилизм. По крайней мере, пока у них ещё есть хоть сколько-нибудь функциональная нейронная сеть. Поэтому пока остановимся на ценностном нигилизме, а к эпистемологическим вопросам вернёмся позже.
Основная проблема нигилизма заключается в том, что он всегда служит уловкой для защиты существующей системы ценностей. Нигилизм особенно хорош в этом, потому что на практике он сводится к утверждению, что дальнейшее размышление о чем-либо бесполезно, поскольку конечной точкой размышлений о вещах является состояние, в котором все ценности имеют одинаковую привлекательность. Утверждается, что вы достигаете вершины совершенного просветления и по-настоящему осознаете, что «звёзды и небо безразличны» — что ценность и стремление к счастью не более и не менее одобряются вселенной, чем ценность и стремление к печали. Или к радуге, или к изнасилованию, или к чести, к геноциду, или к скрепкам для бумаги. Человек обречён достичь — подобно тому, как Ницше столь известен своим испугом по поводу науки и рациональности, которые якобы ведут нас к этому — выгодной точки зрения, вершины над суматохой, с которой можно увидеть, что нет никакой окончательной ценности, к которой неотъемлемо притягивает просветление. Все идеалы пусты, все желания произвольны. Это страх, гораздо более древний, чем Ницше, и чрезвычайно влиятельный.
Мы все знаем, что интеллектуальная бдительность в конечном итоге меняет ценности человека. Например, после размышлений мы понимаем, что два желания несовместимы друг с другом; что одно из них, по крайней мере, должно быть признано более фундаментальным, чем другое, а другое, возможно, даже должно быть полностью отброшено. Или мы понимаем, что ценность, которую мы считали чётко определимой, на самом деле является произвольным набором вещей, временно скреплённых между собой, без глубокого содержания. Что идеология, на которой, как мы полагали, мы основывались, на самом деле была наполнена не только напряжённостью, но и полноценными противоречиями, которые при ближайшем рассмотрении разрывают её на части безвозвратно. Точно так же вы желаете удовольствия и презираете боль, но затем, научившись мысленно отстраняться и переключать нейронный выключатель, который меняет их местами, вдруг обнаруживаете, что между ними нет объективного мета-предпочтения.
Если этика — раздел философии, занимающийся исследованием «должного» — это исследование топологической сети желаний о желаниях (и желаний о желаниях о желаниях и так далее), то нигилизм — это утверждение, что когда вы доходите до самой дальней точки мета-желаний, когда вы отобразили все зависимости и взаимодействия, все напряжения и потоки, не только ничего не разрешается неизбежно как ваше самое глубоко укоренившееся или неизбежное мета-желание, но и никакая глубокая структура не раскрывается вообще. Скорее, вы остаётесь в плавании, ваше исследование заходит в тупик, и вы становитесь способны выбрать любую ценность или желание, не имея никаких новых ориентиров, кроме самых базовых случайностей, самых поверхностных мимолётных импульсов. Отсюда и популярная озабоченность тем, что нигилизм является воротами к поверхностному гедонизму.
Подобные страхи нигилизма широко распространены, и, как ни парадоксально, слишком часто, потому что боящиеся принимают нигилистическую предпосылку. Многие люди на мгновение осознают, что их нынешние убеждения или ценности несостоятельны, критически необоснованны и постоянно находятся под угрозой краха при слишком пристальном рассмотрении. Но, к сожалению, эти же самые люди яростно уклоняются от реального избавления от этого багажа, в немалой степени потому, что пока не представляют, что может их заменить, и реагируют, полагая, что ничто не придёт. В любом случае, поиск лучших моделей мира или более целостных систем ценностей означал бы позволить своим нынешним рушиться, и вместо того, чтобы погрузиться в потенциально бесплодные поиски, они предпочли бы замуроваться. Признать, что они полны дерьма, и просто принять это или стереть знание о нём. Стелить постель там, где они стоят, считая свою собственную, полную противоречий, точку зрения такой же хорошей ложью, как и любая другая. Легче, чем радикально исследовать, уповать на подозрение, что это бесплодно.
Распространение подобной веры в нигилизм среди населения в целом исторически приводило к открытой враждебности к исследованиям, поскольку нигилисты ожидали, что это может привести только к более явному, постоянному или менее оппортунистическому нигилизму. Что, в свою очередь, грозило бы разрушением непоследовательных ценностей или идентичностей, которые они тайно поддерживали с помощью собственного нигилизма. И поскольку интеллектуальная бдительность является определяющим путём или привычкой гиков, философов, учёных и других радикалов, эти сообщества часто сталкивались с обвинениями в «нигилизме» со стороны таких тайных нигилистов.
Естественно, некоторые из нас испытывают желание принять обвинение и согласиться с ним.
В лучшем случае этот самопровозглашённый «активный нигилизм» сводится к бессмысленному и банальному «Всё подвергай сомнению», слегка приукрашенному в дерзкий тон. Это просто призыв к большему скептицизму и критической отстранённости. И кто же с этим не согласится?
Но он редко там задерживается.
Потому что на практике приверженность принципу «Всё подвергай сомнению» — если воспринимать это серьёзно как философию, а не просто как лозунг или психологическую коррекцию — означает либо тайное расставление приоритетов в определённых вопросах, либо полное отсутствие каких-либо мыслей. Разница между скептицизмом и нигилизмом заключается в тщательном взвешивании возможностей и полном отказе от любых подобных измерений и сравнений.
Когда у кого-то есть бесконечное множество вещей, которые нужно «подвергнуть сомнению» в бесконечной степени, то всё, что он расставляет по приоритетам, по сути протаскивает некую фоновую структуру утверждений и ценностей. У обычных скептических философий с этим нет проблем, они с радостью явно называют то, что находится под каким подозрением, — называя степени доверия и зависимости. Чтобы отличиться, чтобы претендовать на то, чтобы действительно «ставить под сомнение всё» таким образом, чтобы не сдаваться, никогда не находя никакого подобия ответов, нигилизм должен отказаться от любой такой структуры. Или, по крайней мере, он должен отказаться от любой явной структуры. В этом облике «активный нигилизм» в конечном итоге оказывается всего лишь ловкостью рук, с помощью которой человек отвлекает либо себя, либо своих идеологических приспешников движущимся красным шаром бессмысленного «отрицания». Поэтому они тратят всё своё время на «критику» (или просто на реактивное отрицание), куда бы ни отскочил шар в их погоне за ним, — в то время как они игнорируют остальную вселенную соображений за пределами этой особой точки. Таким образом, новые нормы, стандарты и предположения закрепляются там, где случайно оказывается фокус внимания. Мчитесь как можно быстрее, охватывая как можно больше пространства, и всё это время вы оставите гораздо большую вселенную вещей неисследованной осознанно. Каждая систематизация, структура или медленно выстраиваемая карта, которую вы выберете для направления своей критики, сама по себе станет новым «богом». Таким образом, вы отказываетесь от руководства структурами, которые можете видеть, анализировать и иметь возможность перестраивать, в пользу руководства более интуитивными и субрационально принятыми структурами.
Единственный способ избежать создания неявных структур — каким-то образом не допустить застывания любых мыслей, моделей и желаний. Не бегать по кругу, пытаясь «критиковать всё в равной мере», а саботировать формирование любых хоть сколько-нибудь осмысленных идей в своей голове. Независимо от того, поэтически ли мы представляем это как пустые, спокойные воды или как бесформенный хаос, эффект один и тот же: неспособность действовать. Разум, действительно лишённый моделей и желаний — без активного интереса к построению таких структур — это разум, возможно, максимально «свободный» внутренне, но более неспособный взаимодействовать с более широкой вселенной.
В обоих направлениях — либо удаляя все размышления и явную структуру из своего ума, чтобы вместо этого стать бильярдным шаром, движимым простыми непосредственными животными желаниями, либо, в качестве альтернативы, увеличивая хаос до бесконечности, чтобы стереть формирование мыслей — конечный результат совершенно неприятен, если только возникающая основная ценность не заключается в отказе от самого познания.
Вот почему нигилизм имеет такую репутацию антиинтеллектуализма среди интеллектуалов. Чистейшее проявление «активного нигилизма» — это отрицание самого мышления, а любой умеренный нигилизм — лишь инфантильный щит для определённых ценностей. В конце концов, если интеллектуальная рефлексия якобы совершенно безрезультатна и не находит никакого внезапного сигнала, нарушающего симметрию между всеми возможными желаниями, то можно остановиться на тех желаниях, с которыми вы пришли, и отбивать любую тенденцию к дальнейшему мышлению или развитию.
Конечно, есть ещё один примечательный выход из этого предполагаемого состояния универсальной симметрии: просто выбрать что-то наугад. Но полное пространство возможных желаний, не говоря уже о возможных моделях реальности, огромно. Бесконечно велико. Для очень больших видов бесконечности. По-настоящему случайный выбор был бы безумно чуждым. Мы говорим не просто о субъекте, желающем выложить свой будущий световой конус скрепками, а о разуме с ценностями и/или моделями реальности, настолько далёкими от нашего понимания, что мы даже не можем о них говорить. Помните, что всё, что меньше истинно случайного, само по себе свёртывается в неисследованные или неразрушенные структуры.
Я не знаю многих, кто заглядывал в бездну нигилизма и возвращался оттуда непостижимыми лавкрафтовскими трещинами в ткани реальности, стремящимися максимизировать извивающиеся демонические скрепки из других измерений. Так что либо нам не стоит об этом беспокоиться… либо исследование, неизбежно ведущее к состоянию идеальной симметрии — мета-симметрии, выходящей за пределы всех возможных значений — это гипотетическое предположение, к которому никто окончательно не пришёл. Скорее, это – влиятельный страх или убеждение, чем реальная реальность.
Обычная спекулятивная фантазия, порой вызывающая сильный эстетический и эмоциональный отклик, но не имеющая под собой никаких фактических оснований, кроме самообмана.
Я хотел бы выдвинуть совершенно неоригинальную альтернативную гипотезу: бдительность, необходимая для выявления и устранения ложных притязаний наших произвольных унаследованных ценностей, сама по себе является возникающей ценностью.
Хотя вокруг таких терминов, как «рациональность» и «наука», можно строить фиктивные теории, тем не менее, остаётся направление последовательного исследования, которое не обесценивает само себя. Я назвал это «радикализмом» в свете того, что анархисты и другие политические радикалы традиционно ценили в этом слове — стремление к корням. Но это крайне философски реалистичная позиция: она предполагает, что существуют корни, к которым можно стремиться. Или, что, пожалуй, менее смело, она просто не находит ничего, за что можно было бы зацепиться, кроме этого предположения, и поэтому продолжает его придерживаться.
Хотя до сих пор я чаще ссылался на ценностный нигилизм, чем на эпистемологический нигилизм, вы можете видеть, что эти два понятия, конечно, глубоко связаны и в конечном счёте неразделимы.
Однако если радикализм верен и в наших моделях реальности есть какие-то корни, за которые можно ухватиться, – наиболее фундаментальная динамика, которую можно обнаружить, – то это автоматически нарушает любую предполагаемую симметрию потенциальных ценностей и желаний. Когда человек стремится к бесконечности, асимптотически приближаясь к этим корням, именно сам поиск остаётся, становясь его самой неизбежной эмергентной ценностью.
Это одна из причин, по которой люди, пытающиеся использовать нигилизм ценностей в качестве быстрого щита для защиты ленивых, нелепых или бессовестных, так часто вынуждены принимать эпистемологический нигилизм. Хищный генеральный директор, который отмахивается от всех размышлений по этическим вопросам, чтобы некритически удовлетворить свои базовые потребности, внезапно начинает извергать резкие отрицания любой объективной реальности. То, что кажется абсурдным и слабым non-sequitur, на самом деле глубоко необходимо, чтобы его карточный домик не рухнул. Мы видим эту динамику повсюду. Грязный ублюдок «ты не можешь приказать мне не заниматься изнасилованием на свиданиях», который окутывает себя атрибутами «оккультизма» и таит страстную неприязнь к «науке». Самодовольный социальный капиталист, который любит манипулировать через эмоции и горячо верит, что есть — или должны быть — пределы разума и аргументации.
В тот момент, когда в мире признаётся существование какого-либо постоянства или структуры, игра ценностного нигилизма становится безнадёжной. Если радикализм — интеллектуальная бдительность — хоть сколько-нибудь последователен и эффективен, то он возникает из заботы. У человека есть желания, и он обращается к интеллектуальному размышлению, чтобы их удовлетворить. Новые открытия способствуют обновлению мотивирующих желаний, и человек всё больше осознаёт, насколько важно иметь более чёткую карту структуры мира. Бесконечные кризисы онтологических обновлений постепенно разрушают любое растянутое жёсткое чувство собственного «я». Происходит неуправляемый процесс накопления, и все остальные ценности отступают перед самим радикализмом. То, что различные дискурсивные традиции называют бдительностью, эпистемической рациональностью, сознанием и даже свободой. Буря рекурсии и метапознания, дающая нам «деятельность».
Теперь можно ввязаться в огромную дискуссию о случайной оптимальности иррациональных/немыслимых стратегий или привычек в определённых локальных контекстах, а также можно утверждать, что существуют и другие возникающие желания/ценности. Я не хочу слишком углубляться в эту тему, рассуждая о конкретных структурах. Вывод важнее любых частностей: у нас есть веские основания полагать, что в пространстве возможных значений есть некая структура. В конце концов, это была бы странная и необычная случайная сеть, которая была бы идеально симметричной, без уникальных аттракторов или потоков. Почему реальность должна быть настолько идеально упорядоченной, чтобы быть совершенно бессмысленной?
Нет никаких доказательств того, что асимптотическая конечная точка исследования подразумевает идеальную симметрию между ценностями. Не существует доказанной нигилистической пропасти, есть лишь призрачный миф о ней. Аналогично, какое значение имеет, откуда берутся наши побуждения к исследованию или какой именно исторический хлам им сопутствовал? Можно было бы постулировать бесконечное множество других отправных точек — структурная динамика, порождающая конвергенции в наших метажеланиях, шире, чем точный исторический путь. Отвергать это — то же самое, что отвергать любую индукцию. Опять же: ценностный нигилизм по своей сути зависит от эпистемологического нигилизма.
Как кто-то может искренне прийти к «выводу» нигилизма? Как это вообще возможно? Антиинтеллектуализм, безусловно, распространён, но не так уж много людей доходят до открытого идеологического поклонения уничтожению сознания. Подобные абсурдные идеи, очевидно, возникают лишь в качестве защиты.
Много говорилось о неотделимости нигилизма от контекста христианства, о том, что он наследует его рамки и философские установки, даже пытаясь бунтовать — например, совершенно неспособный даже представить себе какое-либо понятие «этики», «должности» или «смысла», которое не выглядело бы как божественное повеление. И поскольку, очевидно, что, нет, мы не найдём гигантских пылающих букв на скале, сообщающих нам: «Я приказываю тебе сделать то-то и то-то, твоя цель должна быть такой», те, кто никогда не представлял себе ничего иного, наверняка испытают головокружение, осознав это. Интеллектуально истощённые, те, кто вырос в таких шорах, естественно, склонны искать новую, поверхностную, но сразу уловимую уверенность, чтобы заполнить место, некогда занимаемое Богом: все ценности условны! Это тоже просто и понятно, и помогает смягчить панику неопределённости, смягчает давление, необходимое для тяжёлой работы по исследованию и изучению.
У тех, кто работает в рамках самых угасающих философских традиций, всё это часто наследует странное и ложное представление о том, «что такое смысл» и как он возникает. Это почти классическая западная ошибка — склонность мыслить в терминах первопорядкового понимания языковых утверждений, а не в терминах моделей отношений. Необходимость некоей отправной точки, некой прааксиомы, непосредственно выраженной в языке, которая абсолютно истинна и универсально самоочевидна совершенно неопровержимым образом. Конечно, вы не обнаружите этого, по крайней мере, на первопорядке — любой язык представляет собой контингентную сеть, — но вы, тем не менее, можете обнаружить возникающие закономерности или метапотоки внутри этой сети. «Истина» ли это? Столетия философских споров по касательной показали, что этот термин создаёт неутешительную рамку. Действительно, использование такого слова, как «истина», похоже, подвержено дискретизирующим тенденциям человеческого языка, особенно в суровом смысле «всё или ничего».
Но, конечно, в этом и заключается вся суть. Нигилизм живёт за счёт упрощения угнетённых умов, находящихся в состоянии отступления. Существует глубокая причина, по которой философское понятие «нигилизм» стало в общепринятом языке всего лишь заменой «отчаяния». То, что модель, по которой вы работали, оказалась неверной, не означает, что лучшей модели не найти. И всё же депрессия интересным образом влияет на то, как мы выполняем индукцию или распознавание образов. Она сужает сферу нашего внимания и рабочей памяти и разрушает динамическую сложность нашей картины мира, поэтому мы вынуждены сравнивать только очень простые модели, часто на уровне абстракции, где простота объяснения неразумна. Сведённые к этим немногим оставшимся объяснениям, некоторые особенно простые и ужасные кажутся неоспоримыми. «Я неудачник», «ничего нельзя сделать» и тому подобное. Поверхностные абстракции, скрывающие богатую глубинную динамику в коротком повествовании. Любую часть данных в нашей жизни, любой опыт можно пропустить через эту призму, и зачастую это оказывается лучше, чем любые другие поверхностные альтернативные объяснения, которые мы в отчаянии способны придумать, и поэтому мы прослеживаем это, укореняя это снова и снова.
В этом же ключе часто встречающаяся нигилистическая «критика» надежды всегда является пустячным делом, направленным на подставных лиц.
Какое значение имело бы, если бы вероятность хороших событий была очень низкой? Как это обязательно изменило бы что-либо в наших ценностях, целях или мотивации? Надежда и отчаяние — всего лишь психологические аффекты, состояния ума или эмоции, которые мы всегда можем выбрать в любой ситуации. Ничто никогда не известно со стопроцентной уверенностью, и поэтому всегда есть множество возможностей, которые можно выведать. Иногда стратегически важно начать думать о том, как мы можем выиграть, в других случаях стратегически важно начать думать о том, как мы можем проиграть. Это просто разные алгоритмы поиска. Любой, кто обладает хоть небольшим самознанием и свободой размышлений, может переключаться между ними по мере необходимости. У обоих, конечно, могут быть свои режимы неудач — излишняя самоуверенность, ограниченность возможностей или безразличие и отсутствие воображения, — ну и что. Любую стратегию можно разбить грубой силой.
В самом ленивом, самом общем смысле «нигилизм» часто означает своего рода посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное нелепыми экспериментами с надеждой. Но в частности, это нелепая надежда, которая представляет собой не поиск возможностей, а лишь ложную уверенность: мотивацию себя иллюзией гарантированной победы.
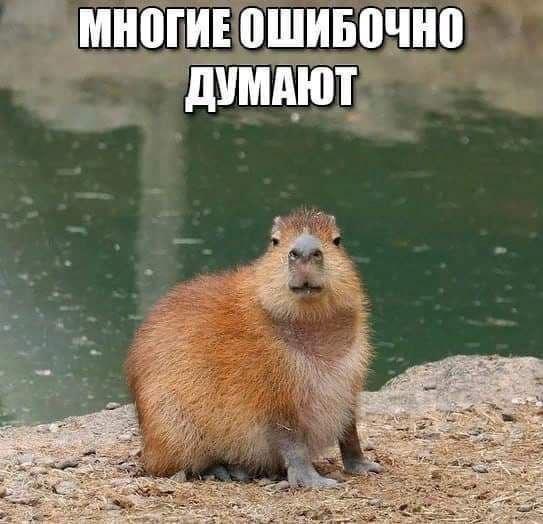
Подумайте, насколько странно, что кому-то вообще может понадобиться уверенность в победе для достижения определённых целей. Такая потребность выдаёт, что преследуемые цели не ценятся сами по себе. Если революция — единственный способ достичь свободы, а вы цените свободу, то вы, очевидно, будете стремиться к ней, какими бы ничтожными ни были ваши шансы на успех. Но если то, что вы действительно цените, — это не свобода, а нечто иное или совокупность вещей, которые можно удовлетворить иным способом, — если свобода для вас — лишь ещё одно средство достижения этих целей, а не самоцель, — то маловероятность революционной победы становится важной. (Возможно, именно поэтому потенциальные комиссары марксизма так много кричали о неизбежности своей победы. Без такой уверенности они бы искали совершенно иные пути к власти и привилегиям, которых они действительно жаждали.)
Переубедив себя в том, что победа гарантирована, человек стремится скорректировать курс в противоположном направлении. Это позволяет избежать глубоких размышлений о своих ценностях, их взаимосвязях, главенстве и значимости. Следуя тому же примеру, если свобода воспринимается как совершенно невозможная, а не просто маловероятно достижимая, то продолжать ценить её было бы непоследовательно. Такой шаг спасает человека от истинного осознания своих мотивов.
Это чертовски лениво, в этом вся суть.
Такой «нигилизм» приводит к тому, что событиям приписывают буквально нулевую вероятность, а не небольшой процент, поскольку это всего лишь выражение депрессии. Своего рода идеологическая схема чрезмерного упрощения, призванная утешительно скрыть разрушающееся психическое здоровье.
Широко и по-разному высказывалось мнение, что «нет смысла обсуждать нигилизм, всё, что вы можете сделать, это обеспечить терапию», и этот народный «нигилизм», который определяет себя в противопоставлении «надежде», похоже, подтверждает это. Не столько философский аргумент или позиция, сколько психологический. Состояние чувств. Тогда мы могли бы рассматривать такой «нигилизм» исключительно в социологических терминах, как аффективное состояние, которое заставляет людей объединяться, пока племенные эффекты не возьмут верх, продвигая различные заклинания, которые укрепляют этот общий связующий опыт. В этой оценке есть своего рода облегчение: то, что заклинания этого «нигилизма» не работают как строгая или радикальная философия, может быть просто следствием неправильного толкования их.
Однако это, вероятно, слишком оптимистично.
Конечно, в каком-то смысле многие, кто небрежно называет себя «нигилистами», — это просто модники, одержимые депрессией, для которых философские аргументы, которые они извергают, — лишь пустая болтовня. Но то же самое часто справедливо и для многих философских учений. Было бы ошибкой полагать, что если известные личности не воспринимают философию, которую они представляют, всерьёз, то и никто её не воспринимает. Или что сама идеология не имеет никакой практической силы.
Нигилизм, как мы видели, в каждом своём воплощении является философией антиинтеллектуализма. От превентивного игнорирования любых дальнейших исследований наших моделей или ценностей до донкихотских требований не поддерживать никакой структуры в нашем сознании и до фетишизированной депрессии. Нигилизм может проявляться специфично для определённой области или направления мысли, но общим для всех этих вариаций является склонность к чрезмерному упрощению — поиску оправданий, чтобы отмахнуться от интеллектуального бдения и мучений, которые иногда его сопровождают. Нигилизм — это твёрдая вера в отсутствие причин для дальнейшего размышления. Различные аргументы в пользу этого не способны поддерживать больше, чем занавески на окнах.
И из всех идеологий «нигилизм» — одна из самых распространённых. Он добился невероятного успеха и получил широкое распространение. И неудивительно, ведь это упрощённая и более прямолинейная версия того, что лежало в основе столь многих других религий и идеологий. Размышления дальше, системные, скрупулёзные, глубокие — радикальные — это пустая трата времени.
Не нужно долго искать, к чему приводит такая тенденция. Отрицание радикального исследования всегда было реакцией.
Самые отъявленные нигилисты — это алчные биржевые дельцы и случайные геноцидники. Насильники и тираны. Каждый глупый социопат — нигилист по своей природе. И, пожалуй, стоит также учесть самоубийства и крохи тех закоренелых мизантропов, которые стремятся уничтожить весь шум, краски и сложность мира, наполненного мыслью и действием.
Нигилизм пронизывает нас. Он душит наш мир, поддерживая разлагающиеся структуры и ценности слева и справа.
Это не кислота и не бездна, способная поглотить что угодно. Скорее, нигилизм — это самый сильный клей из всех существующих — объятие противоречия, самоотвлечение, отказ от систематического размышления — клей, способный скреплять абсурд посредством упреждающих ударов по самому познанию. Этот клей исторически скреплял целые империи и церкви. Его самое чистое и вопиющее выражение — фашисты, которые были рады объять противоречия, когда они были полезны для потакания своим забавным и животным желаниям. Для нигилиста или фашиста любой позволенный интеллектуализм — всегда защитный ход. «Этический» призыв сегодня, его отрицание завтра — что бы ни служило их поверхностным целям. Теория терпится лишь постольку, поскольку она служит чьим-то целям, ей никогда не позволяется удивлять и бросать вызов. Искреннее исследование им совершенно чуждо.
В этот нигилистический мир громко заявились несколько новичков, сегодня же это горстка учёных и засранцев, которых нянчили либерализм и академическая среда, и которые, таким образом, каким-то образом воспринимают понятие нигилизма как нечто новое, а не как, например, для всех нас, как слишком уж вездесущую и пагубную идеологию, скрывающуюся за жестокими ухмылками всех тиранов, с которыми мы когда-либо сталкивались. Эти шутники появились слишком поздно, чтобы преуспеть в нигилизме, будучи давно опережёнными миллионами социопатов, живущих в этой среде, и всё, для чего они действительно могут использовать его, – это отбиваться от любых неприятных пересечений с совестью или серьёзными интеллектуальными усилиями в потенциально важных направлениях. Вместо этого они предпочитают раскручиваться в перформансах. Можно исследовать весь контекст и содержание их высказываний, наиболее популярные течения, людей, стоящих за ними, и какие ценности или ориентации требуют такой маскировки, чтобы оправдать столь ребяческий защитный приём, как нигилизм. В конкретном случае анархистской среды последних лет очевидный ответ — это слияние выгорания и бессовестного социального капитализма, но здесь сложно удержаться от более резкой критики. Другие авторы уже освещали эту тему, и я предпочитаю оставить свои куда более резкие размышления по этому поводу для отдельных эссе, посвящённых конкретным течениям.
Что важно и независимо от подобных локальных перестановок, так это характер нигилизма. То, что они так бойко транслируют, не нейтрально, оно имеет внутренние связи и цели.
Будь то бессознательный или сознательный, нигилизм служит защитной мякиной, которую бросают люди, которые ценят определённые вещи и не хотят рисковать, либо разоблачая эти ценности, либо изменяя их. Явный и высказанный нигилизм – это своего рода удвоение ставки: радостное принятие противоречия позволяет как скрывать то, что действительно значимо, от проверки, так и возводить барьеры для читаемости как способ укрепления социальных иерархий доступа. В то же время этот нигилизм использует произвольную сложность бессвязности, чтобы отвлечь её, также оправдывает сокращение внимания, крушение желаний и моделей мира, от более сложного к более непосредственному. Пока человек просто не реагирует, как пнутый камень, вместо того, чтобы размышлять и выбирать.
Нигилизм — это смерть. Размывание свободы воли и выбора. Гниение, заменяющее живое, ищущее чувство ума разобщённостью и окаменением. Оно разрывает линии взаимодействия, помогает поддерживать стены для защиты от внешнего мира. В этом смысле оно, возможно, идеально достигает извращённого понятия негативной свободы или свободы-от. Оно обеспечивает идеальный вид засолки там, где человек стоит. Сохраняя некое искажённое подобие жизни, хотя и неподвижное и запертое, по крайней мере до тех пор, пока бутылка наконец не разобьётся и подвешенному трупу не будет позволено сгнить. Это может представлять собой своего рода «защиту», но и только.
Нигилизм неспособен на реальное разрушение, так же как он отказывается участвовать в творении. В конечном итоге он служит только сохранению того, что существует. Его отход от структуры к безразличию размывает мир, превращая его в бесформенную серость, полностью ослепляя нас в отношении возможностей. Изменять вещи, действовать, иметь выбор — это по сути своей размышлять, давить на мир, впитывать его текстуру и структуру и строить на этом. Быть свободным — в позитивном смысле свободы — это прежде всего иметь возможность исследовать и прослеживать сеть возможного. Свобода требует взаимодействия с возможностью, нигилизм отрицает её. В идеологическом неприятии нигилизмом радикального исследования — в его слепой вере в то, что дальнейшая мысль в конечном итоге не откроет ничего, кроме бесконечной бесформенной серости, — он в конечном счёте стремится подавить всякое живое движение в наших умах и, следовательно, в мире.
Итак, без полемики, но с торжественностью, мы должны заключить: нигилизм, в конечном счёте, есть фашизм. И его необходимое семя, и его наиболее чистое выражение.
Перевод с английского:
http://humaniterations.net/2016/05/10/nihilism-a-lie-in-service-to-the-existing/