Гюнтер Зандлебен, 1998
Дебаты о глобализации до сих пор в значительной степени игнорировали внутреннюю связь между глобальностью и национальностью. Элемент национального государства рассматривается как устаревший исторический пережиток, который, в зависимости от точки зрения автора, либо стоит защищать как оплот сопротивления развязанным силам рынка и действующим на нем транснациональным корпорациям, либо его постепенное исчезновение приветствуется как ликвидация национальной угрозы.
В дальнейшем будет показано, что, помимо индивидуальности и глобальности, капитал также имеет территориальное определение. Территориальная фокусировка в виде различных национальных государств возникает — согласно нашему тезису — из самого производственного капитала. Глобализация и фрагментация национальных государств — две стороны одной медали. Даже взгляд на историческую карту показывает, что история капитализма ни в коем случае не характеризуется тенденцией к уменьшению национальных государств, а скорее к их увеличению. Фактически глобализация идёт рука об руку с демаркацией национальных государств. Нельзя также упускать из виду, что рождение капиталистических способов производства, которое привело к резкому росту глобализации, сопровождалось ярким сиянием национальной звезды в виде меркантилизма. Последние события в Центральной и Восточной Европе демонстрируют аналогичное явление: там капиталистическая реставрация происходит не при сохранении сравнительно крупных экономических районов, а сопровождается фрагментацией национального государства на множество малых наций, о которых мало кто знал до социально-политического поворота, а теперь они вдруг обнаруживают свою самобытность и независимость. Подобные тенденции порождают подозрение, что «национальный вопрос» должен быть как-то связан с капиталом.
I. Глобализация неизбежно обусловлена общей детерминацией капитала: Капитал, понимаемый абстрактно, — это стоимость, которая сохраняется и увеличивается в движении, т.е. возвращается в исходную точку с прибылью. В соответствии с его концепцией, он бесконечен в своём движении, не знает фокусировки на отдельных странах, национальных или территориальных особенностей.
Его характерной чертой является именно безразличие к географическим и материальным условиям. Его детерминации говорят в пользу глобальности, а не национальности. Купеческий капитал был соответственно глобально ориентирован ещё до возникновения капиталистического способа производства. Купцы в основном покупали товары, которые ещё не произведились капиталистическим способом, чтобы продать их по более высокой цене.
Ганзейский союз, например, показывает, насколько мало купцы были связаны с конкретной страной. В него входили купцы из совершенно разных городов с разными культурами и традициями; торговля имела глобальный, а не национальный характер. Внешняя торговля, вопросы торгового баланса и т.д. были чужды этому миру торговли. Отсутствовала локализация, территориальные связи капитала. Это существует только в современном капитале, который доминирует в производстве. (1)
Archives
Г. Рид: Экзистенциализм, марксизм и анархизм (1949)
Истоки экзистенциалистского движения обычно связывают с Кьеркегором, чьи основные философские работы появились в период с 1838-го по 1855-й год. Поскольку они были написаны на датском языке, они не сразу попали в широкое обращение. Различные подборки Бартольда публиковались в Германии с 1873-го года до конца 19-го века, но первый полный немецкий перевод его работ появился только между 1909-м и 1923-м годами, а англо-американские переводы начались только в 1936-м году. Однако нет никаких оснований считать Кьеркегора основателем экзистенциализма. Правда, он придал этому движению специфически христианский оттенок, но всё основные идеи уже присутствовали в философии Шеллинга, и следует помнить, что Кьеркегор, как бы сильно он ни критиковал Шеллинга, тем не менее сначала испытал глубокое влияние этого великого немецкого философа, а в 1841-м году совершил специальное путешествие в Берлин, чтобы посидеть у его ног. Кстати, задолго до Кьеркегора наш Кольридж читал ранние работы Шеллинга, и мы находим в менее известных работах Кольриджа значительную часть экзистенциалистских мыслей. Как я уже отмечал в другом месте, (1) все основные понятия современного экзистенциализма — ангст, бездна, непосредственность, приоритет существования перед сущностью — можно найти у Кольриджа, и большинство из этих понятий Кольридж, несомненно, получил от Шеллинга.
Для моей цели необходимо дать общее описание экзистенциалистской позиции в философии, но я не профессиональный философ и не собираюсь использовать техническую терминологию, в которую часто облекаются вполне очевидные факты или идеи. Кажется, что философ, называющий себя экзистенциалистом, начинает с острого приступа самосознания, или обращённости вовнутрь (inwardness), как он предпочитает это называть. Он внезапно осознает свою отдельную одинокую индивидуальность и противопоставляет её не только остальным представителям человеческого рода, но и всему мирозданию, как оно раскрывается в ходе научных исследований. Вот он, ничтожный и незначительный кусочек протоплазмы на фоне бесконечных масштабов Вселенной. Правда, современным физикам, возможно, удалось доказать, что и сама Вселенная конечна, но это только усугубляет ситуацию, поскольку теперь Вселенная сжимается до ничтожности и противопоставляется ещё более загадочной концепции Небытия. Это не просто нечто бесконечное, это нечто немыслимое для человека. Хайдеггер посвятил одно из своих самых интригующих эссе попытке — не определить неопределимое — но определить отрицание Бытия, Не-бытия или Ничто.
Итак, перед нами Маленький человек, который смотрит в бездну и чувствует себя — поскольку он всё ещё сохраняет бесконечную способность к ощущениям — не только очень маленьким, но и испуганным. Это чувство — изначальный «Angst», ужас или страдание, и если вы не ощущаете ангст, вы не можете быть экзистенциалистом. Сейчас я собираюсь предложить, что мы не обязательно должны чувствовать ангст, но все экзистенциалисты его чувствуют, и их философия начинается с этого факта. Есть две фундаментальные реакции на него: мы можем сказать, что осознание ничтожности человека во Вселенной может быть встречено своего рода отчаянным вызовом. Пусть я ничтожен, а моя жизнь — бесполезные мытарства, но, по крайней мере, я могу окинуть взглядом всё это зрелище и доказать независимость своего разума, своего сознания. Жизнь, очевидно, не имеет смысла, но давайте притворимся, что он есть. Это притворство, во всяком случае, даст человеку чувство ответственности: он сможет доказать, что он сам себе закон, и даже договориться со своими товарищами об определённых рамках поведения, которые в данной ситуации все они должны принять. Он свободен это сделать, и его свобода, таким образом, перерастает в чувство ответственности. Такова доктрина Сартра, но он не очень ясно объясняет, что произойдёт, если он не сможет убедить своих товарищей договориться об определённых правилах поведения или определённых ценностях. Я думаю, он сказал бы, что определённое согласие обеспечивается нашим человеческим положением, что, будучи тем, что мы есть, когда наша экзистенциальная ситуация становится ясной, мы обязаны действовать свободно определенным образом. Наша необходимость становится нашей свободой. Но я не уверен в этом. Герои романов и пьес Сартра, как правило, поступают абсурдно или в соответствии со своими психологическими склонностями и не несут заметной ответственности перед каким-либо идеалом социального прогресса.
Пустота «левой»
Уильям Гиллис, 2017
Лично я думаю, что «левые» в конечном счёте не представляют собой что-то последовательное, а скорее являются исторически обусловленной коалицией идеологических позиций. Бастиа и другие последователи свободного рынка сидели слева во французской ассамблее, и хотя мы можем пытаться утверждать, что это часть последовательной левой рыночной традиции, мы должны быть честными в том, что позиция человека в той конкретной революции — не говоря уже о революции вообще — вряд ли может сказать о многом. Всегда найдутся революционеры, желающие систем гораздо хуже нашей актуальной, и точно так же было много широко признанных «левых», чьи желания были совершенно несовместимы с освобождением.
В наши дни принято представлять левых и правых как, соответственно, эгалитарных и иерархических. Но это не только навязанное прочтение гораздо более запутанной исторической и социологической реальности, но и, честно говоря, довольно бессодержательное с философской точки зрения. Никто не может точно сказать, что означает эгалитаризм или даже иерархия, а многие интерпретации не только взаимно исключают друг друга, но и показывают, что якобы идентичные утверждения на самом деле глубоко антагонистичны. Означает ли эгалитаризм, что все получают одинаковое богатство (как бы оно ни измерялось)? Означает ли он просто юридическое или социальное равенство в абстрактной сфере отношений перед народом или правовой системой государства? Означает ли оно равные возможности для экономического роста или равный доступ к народным зернохранилищам? Отменяет ли равенство все другие добродетели, такие как свобода? Лучше ли угнетать всех одинаково, чем добиваться большей свободы? Я не шучу. Мы обходим эти глубокие вопросы стороной, руководствуясь «здравым смыслом» и полагая, что наши товарищи придут к такому же мнению, как и мы, разделяя нашу интуицию в отношении различных компромиссов, но эмпирически это не так. Мы постоянно расходимся во мнениях.
Люди говорят о «коллективной прямой демократии», как будто почти единодушная воля некоего социального органа представляет собой эгалитарное условие. Конечно, в некоторых определениях так и есть. Но как только я вижу, что некий коллективный орган пытается голосовать за мою жизнь, я не хочу «участвовать», я хочу бросить в него бомбу. Левые используют как лозунги «власть народу», так и «отменить власть» — это должно быть серьёзным тревожным сигналом для всех, т.к. речь идёт о совершенно разных концептуальных системах и ценностях. Полагать, что если мы сядем и поговорим обо всем, то окажемся на одной волне, в высшей степени иллюзорно. Предположение о пан-лефтистской солидарности или общей цели — это успокаивающая ложь. Continue reading
Л. Кофлер: Умственная деградация и магическая религиозность (1981)
[И ещё раз о (постмодернистском) разжижении мозга, вербальной магии и прочих формах «атеистической духовности». Если вы не узнаёте в болтовне об идентичностях, о напр. женских душах, рождённых в мужских телах, и прочих divine self старую добрую эзотерику и прочий New Age с соответствующим религиозным пылом, то вы слишком долго изучали глупости Батлер в универе и помочь вам уже никто не в состоянии. – liberadio]
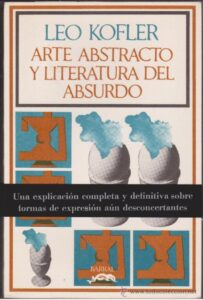 В «Брокгаузском разговорном лексиконе» от 1898-го года, основная позиция которого склоняется к либерализму, буржуазно-либеральный скептицизм по отношению ко всем религиям выражается следующим образом: «Но поскольку то, что составляет истинную веру, очень различно у разных народов и в разные времена, то, что для другого является истинной верой, для одного кажется суеверием». В этом высказывании размывается разница между религией и суеверием. Научное требование строгого разграничения терминов в смысле сути определения здесь не выполняется.
В «Брокгаузском разговорном лексиконе» от 1898-го года, основная позиция которого склоняется к либерализму, буржуазно-либеральный скептицизм по отношению ко всем религиям выражается следующим образом: «Но поскольку то, что составляет истинную веру, очень различно у разных народов и в разные времена, то, что для другого является истинной верой, для одного кажется суеверием». В этом высказывании размывается разница между религией и суеверием. Научное требование строгого разграничения терминов в смысле сути определения здесь не выполняется.
Религию следует определять как отношения, основанные на вере в существование высшего, миросозидающего существа, между этим божественным существом и субъектом, который, согласно его самовосприятию, сосредоточен на себе, в результате чего последний надеется на что-то от этого существа для своего благополучия и спасения. В этом определении важным остаётся то, что все посредничества между верующим и Богом, происходящие из земной, профанной сферы жизни, интеллектуально пропускаются, и устанавливается прямая связь между ними. Существенное различие между религией и магической псевдорелигиозностью проявляется именно в том, что в последнем (как и в прошлом в анимизме, магии и колдовстве вплоть до некромантизма, экзорцизма и веры в ведьм) искажение и фальсификация метафизической чистоты божественного происходит за счёт того, что для достижения цели спасения используются профанные средства, взятые из земной сферы. Фальсификация заключается в том, что из-за этого посредничества земных сил и средств само божественное оказывается втянутым в осквернение земного и частично или полностью обезбоженным.
За исключением первобытного периода развития человечества и последующей эпохи, предшествующей монотеизму, суеверия затрагивают значительные слои населения там, где неуверенность и угроза жизни заставляют человека отстраниться от традиционной религиозности и обратиться к непосредственно возникающим иррациональным средствам. Наиболее распространенным явлением такого рода является астрология. Однако астрология не подходит для того, чтобы взять на себя магическую роль, к которой часто сознательно или бессознательно стремятся, поскольку на созвездие небесных звёзд нельзя повлиять, даже внешне, с помощью каких-либо обрядов, придуманных человеком. Таким образом, существуют две основные формы суеверного псевдорелигиозного поведения: во-первых, та, которая характеризуется простым ожиданием событий, происходящих совершенно независимо от человека, наиболее ярким примером которой является астрология; во-вторых, существует большое количество псевдорелигиозных тенденций, заключающихся в том, что суеверный человек пытается повлиять на определённые события в свою пользу более или менее иррациональным, то есть магическим, способом, чтобы обеспечить ожидаемый успех. Мы рассматриваем здесь в первую очередь эту вторую форму псевдорелигиозного поведения, которую можно наблюдать сегодня, причём нас интересует не столько систематическое описание соответствующих форм, сколько социолого-теоретическая интерпретация общей магической тенденции в современном обществе.
По Марксу, все без исключения религиозные явления, как религиозные, так и псевдорелигиозные, имеют ту общую черту, что являются идеологическим выражением — как говорит Маркс — «угнетённой твари», то есть возникают из чувства человека, который считает себя угнетённым природой или обществом. Следует добавить, что для монотеистической эпохи, но особенно для «просвещённого» буржуазного периода истории, поворот к чисто абстрактной — абстрактной в смысле современной теологии — концепции единого Бога означает резкое и радикальное противостояние всем магическим тенденциям; это независимо от того, что магические остатки очень часто можно наблюдать в практике монотеистической религиозной практики. Это противопоставление подлинной и магической религиозности имеет большое значение для социологического вопроса, поскольку на его основе можно показать, что, особенно в периоды социальных и культурных кризисов, тенденция к распространению магической псевдорелигиозности за счёт подлинной религиозности возрастает наиболее сильно. Continue reading
Л. Кофлер: Иисус и бессилие (1974)
Голос протеста против общества потребления возвышают «грязные и длинноволосые»,
которые публично демонстрируют своё неприятие буржуазного мира; некоторые
напоминают нам, что Христос — такой же длинноволосый и преданный Марии Магдалине —
тоже был против фарисеев и богачей.
Проф. Богдан Суходольски, 1973
Независимо от того, существовал ли он в действительности как исторический феномен или нет — подобно Вильгельму Теллю, который, как мы знаем, никогда не существовал, — Христа, с одной стороны, следует понимать как простого человека, который, как говорят, обладает определёнными субъективными качествами и который поэтому возведён в статус морального образца для подражания в области религиозного воспитания, а с другой стороны, как аллегорию. Как аллегория, этот человек выражает квазионтологическую позицию человека между грехом и искуплением.
Как мы увидим, именно связанные со временем явления общественного и человеческого разложения провоцируют, с одной стороны, чувство греховности, а с другой — столь же связанное с эпохой переживание бессилия, трансцендентную тоску по искуплению. Протест Христа в условиях полного бессилия превращается в религиозную метафизику как идеальная форма преодоления человеческой нищеты в условиях, не допускающих другой, реальной формы преодоления. Протест Маркса, напротив, превращается в реалистическую критику, поскольку он возможен в условиях, позволяющих увидеть на историческом горизонте перспективу социального преодоления. Другое дело, превращается ли эмоциональный протест в рациональную критику или критика уходит в протест и не переходит границ эмоционального, в чём и состоит реальное различие между Христом и Марксом.
Не только потому, что исторический Христос или тот, кого за него выдают, принадлежал к секте назареев, его следует определять как лидера секты. Тот факт, что сектантское движение развилось в мировую религию, ни о чем не говорит; другие монотеистические религии тоже начинались как секты. Как и во всех настоящих религиозных сектах, в первоначальном христианстве следует выделить несколько элементов, которые сливаются друг с другом:
1) бескомпромиссное отрицание существующего, полный отказ;
2) измеряемые этим радикальным и полным отказом от существующего, они оказываются исторически «слишком ранними», то есть либо предвосхищают развитие более поздних эпох в плане идей, либо реализация их требований несовременна, поскольку социальная и политическая ситуация не отвечает им, ещё не революционна; поэтому они являются «сектантскими», изолированными;
3) такая ситуация порождает чувство полного бессилия;
4) это, в свою очередь, порождает их бунтарско-анархический характер;
5) дальнейшим следствием этого является перенос их стремления к искуплению в сверхъестественную сферу божественного разума (религиозного естественного права);
6) конденсация этой идеи в метафизическую и интернализованную идею искупления, недостижимую для земных сил господства и угнетения;
7) добровольный отказ от земных благ удовольствия и благополучия, в значительной степени монополизированных правителями, добровольная бедность и аскетизм. (То, что под давлением определённых социальных явлений этот аскетизм может превратиться в накопительство, несовместимое с бедностью, хорошо известно, но это уже совсем другая проблема). Все это относится к Христу и его Церкви.
Если свести эти определения к социологическим основным положениям, то они ни в коем случае не находятся во внешнем порядке, а скорее в отношениях тождества: полное бессилие, полный отказ и тенденция к анархическому бунту не могут быть отделены друг от друга. Эти три условия одновременно формируют сущностные характеристики того, что можно подвести под термин «анархизм» в самом широком смысле, то есть что создание «обособленного учения» (чтобы не использовать уничижительно звучащее слово «сектантство») и анархизм в конечном счёте определяют друг друга. Ведь оба они вращаются вокруг тотального отказа, который вытекает из полного неприятия существующего и одновременного ощущения полного бессилия. Continue reading
Л. Кофлер: Три основные ступени диалектической философии общества (1966)
[Кофлер наваливает на т.н. Франкфуртскую школу, в особенности на Маркузе. Батюшки, шо делаецо! Осталось только заполировать Кралем (есть кое-что в планах). – liberadio]
На протяжении тысячелетий усреднённая структура социального процесса была прозрачной для окружающих, но тем не менее абстрактной. Стоит вспомнить, что, хотя человек жил в классовом обществе на протяжении многих эпох, класс был открыт только во время Французской революции (Марат) и возведён в ранг понятия лишь в 19-м веке утопическими социалистами, либеральными и консервативными французскими историками (Тьер, Тьерри, Минье, Гизо, Мишле). Абстрактность заключалась как в отражении исторических событий как сопоставления и путаницы совпадений, так и в представлении о первичности влияния субъективного, то есть более или менее сильной личности. Там, где ей противостояло представление о надсубъективной «судьбе» как идеологической форме представления об объективных силах, она также могла быть понята лишь абстрактно, мифологически, как в античности, или с помощью астрологии, как в эпоху Возрождения. Причину такой идеологической установки можно найти в преимущественно естественном, простом и медленном развитии экономических условий, прежде всего производительных сил. Поэтому такие условия представлялись простыми и пассивными объектами человеческих усилий, субъективной воли. Не было осознания того, что они могут определять общество и историю.
Французская революция раз и навсегда разрушила этот мир идей. Она заставила нас осознать, что история состоит не просто из случайностей и субъективных действий, а пронизана общей закономерностью восходящего развития, переходящего от этапа к этапу, и взаимозависимостью между частями, выходящей за рамки случайного. Образ объективной, хотя и противоречивой рациональности исторических событий накладывается на осознание времени. Основанная на кажущейся случайности фрагментация сословного порядка, его кажущаяся исключительная зависимость от воли и решений могущественных индивидов и групп — только различие между людьми рассматривалось как предопределённое природой и Богом — сменилась образом исторической динамики, не уважающей эту волю, и буржуазной претензией на возведение всего исторического бытия в ранг целенаправленного формирования жизни по рационально оправданным и потому разумным принципам. Даже субъективный эгоизм, освободившись от оков Средневековья, предстал как момент реализации рациональных «естественных законов» в человеческой жизни, превосходящих всякую случайность. То, что всегда заявляло о себе как исторический контекст, организованный в тотальность за завуалированным знанием более ранних эпох, в результате того простого обстоятельства, что человек сам творит свою историю и поэтому в каждую социальную эпоху диалектическая связь всех принадлежащих ей моментов друг с другом характеризует именно эту эпоху, стало узнаваемым как общий (формальный) принцип всей истории и настоятельно требовало философской обработки. Да, даже больше того. Он навязывался наблюдательному уму с такой силой, что часто переживался им как самый общий закон мира, для которого мы находим самое крайнее выражение в философии Гегеля. В своём понимании этих явлений Гегель вышел далеко за рамки утверждений философии 18-го века, которая, ссылаясь на внешние условия природы, давала событиям лишь очень внешние рамки, потому что перед ним предстала диалектика, взятая им из исторического наблюдения, но перенесённая в мировой дух обозрения мира природы и мира человека, диалектика субъективной деятельности и объективного процесса (тотальности), а затем индивида и целого. В то же время эти связи могли быть поняты им только в их философской общности, поскольку в результате незрелой экономической ситуации, которая была преодолена только в следующую эпоху, стало видно то, что стояло за ними и двигало их в субъективной и «естественно-правовой» областях (и к чему мы вернёмся ниже), а именно противоречие между применением производительных сил и господствующими отношениями производства, короче говоря, экономическими условиями, которое всегда требовало преодоления и всегда вспыхивало заново. Только с реальными последствиями промышленной революции после смерти Гегеля стало очевидно, что то, что Гегель всё ещё называл абстрактной тотальностью, получило своё конкретное структурное и предельное определение через производственные отношения и что концептуальные инструменты, с помощью которых можно работать с этим понятием тотальности, должны быть выведены из диалектического понятия экономического базиса. Следует добавить, что только благодаря этому реальному и эпистемологическому базису стало абстрактно и реалистически видимым не только исторически конкретное слияние бесконечного и противоречивого многообразия явлений эпохи в диалектическое единство тотальности, но и удовлетворительное решение проблемы соотношения субъективного и объективного, деятельности и процесса, мышления и бытия.
Если для Гегеля тайна реальности была тотальностью разума, то для Маркса тайна разума была тотальностью реальности. Но, представляя действительность и разум как взаимно тождественную тотальность — и мы видели, по каким историческим причинам, — Гегель сосредоточивает своё внимание на внутренней динамике этой тотальности, которая как таковая, если её продумать до мелочей, раскрывает тайны её сущности, пусть даже первоначально и полностью в смысле метафизики разума в её метаисторической и потому абстрактной философской форме. Однако в этой абстрактности мировой дух в то же время мыслится как предельно конкретный, поскольку действующие через него (в истине, взятой из истории) определения отрицания отрицания, тождества противоречий, понятия как сущности, целого как истины, видимости как обмана и в то же время сущности, проявляющейся (просвечивающей) в опосредовании тотальности — что уже указывает на центр позднейшей марксистской проблемы идеологии — и т.д. являются определениями самой реальной истории. являются детерминациями самой реальной истории. В том, что Маркс и Энгельс под впечатлением реального появления deus ex machina «мирового духа», а именно экономико-социального процесса, перевёртывают гегелевские определения и лишают их метафизической оболочки, они поднимаются на тот уровень историко-философской мысли, с которого возможен только теоретический прогресс на том же теоретическом уровне или регресс.
В наше время можно наблюдать две формы этого регресса: регресс в механический материализм 18-го века, хотя и со всеми ограничениями, которые уже не позволяют полностью регрессировать от Маркса и Энгельса; и регресс в гегелевский идеализм мирового духа, хотя и со всеми ограничениями, которые также не позволяют такого регресса. Далее мы рассмотрим лишь некоторые проявления последнего. Однако уже сейчас следует сказать, что мы не отвергаем полностью результаты этого направления, тем более что его внутренняя дифференциация и сложность допускает и положительные черты именно там, где его представители ещё чувствуют себя приверженцами марксистской диалектики. Continue reading
Л. Кофлер: Рабочий и умирающее время. К проблеме грусти, отчуждения и свободного времени в бытии рабочего (1958)
Лео Кофлер
Основное настроение уныния, пронизывающее жизнь рабочего, вызывают три взаимодействующих фактора: 1) среда, состоящая из рабочего места и его окрестностей, а также путей и средств сообщения (например, типичные рабочие электрички), 2) осознание рабочим своей социальной и человеческой неполноценности и 3) нахождение рабочего во власти доминирующего в его жизни явления — умирающего времени.
Чтобы понять этот феномен, необходимо прояснить два понятия: понятие труда и понятие времени (являющегося не просто физическим).
Широко распространённой ошибкой является мнение, что понятия «труд» и «работник» находятся в непосредственном взаимодействии друг с другом таким образом, что работник определяется фактом своего труда как такового и заметно отличается от других людей именно в силу этой характеристики — быть носителем труда. Истина скорее в том, что рабочий — это работающее существо, потому что он человек в общем смысле. Напротив, как работник в специфически социальном смысле, он является существом, отчуждённым от труда — точнее, от его первоначальной цели, как будет показано далее. Ибо в нём труд, в той мере, в какой мы понимаем его как изначальную, антропологическую сущность человеческого бытия, выражает себя именно как не-труд, т.е. как разложение изначальной особенности человека, как явление, которое его опустошает. Как это понять точнее?
Труд и игра
Человек, одарённый сознанием, способный в силу этого сознания ставить перед собой цели, к осуществлению которых он стремится, изменяя элементы реальности (объекты), предстаёт поэтому по самой своей природе как человек, как существо активное или работающее. В антропологическом «намерении» цель человеческой деятельности (равнозначной труду) — оказать «самореализующее» воздействие, то есть привести человеческие силы, таланты и дарования, а значит и самого человека, к гармоничному развитию. Такой труд называется творческим, и он проявляет тенденцию к творчеству везде, где сохраняет свой свободный характер, поскольку ориентирован на самореализацию, а не служит целям, чуждым человеческой судьбе, «отчуждённым» от неё и обычно навязываемым в такой форме. В сфере такой свободной деятельности или труда она приобретает новое качество, поскольку совпадает с тем, что мы склонны называть игрой (от которой следует резко отличать бессмысленную игру, которая, кстати, тоже является формой труда). Поэтому вполне корректно говорить, что действительная антропологическая сущность человека представлена в игре; понятия деятельности, труда и игры достигают здесь полного тождества. Continue reading
Л. Кофлер: Диктатура буржуазного духа в капиталистическом государстве (1957)
Лео Кофлер
В своих ранних работах Маркс указывает на ту важную роль, которую буржуазный мир мысли играет в структуре современного классового общества. С одной стороны, буржуазная мысль представляет собой реальную силу, необходимое средство для поддержания господства класса капиталистов, которое действует во всех направлениях. Это легко создаёт видимость того, что социальные отношения и дифференциации обусловлены исключительно интеллектуальными факторами. Но, с другой стороны, эта видимость остаётся лишь видимостью, поскольку за ней стоят реальные, экономические и социальные отношения господства и эксплуатации, исчезновение которых является единственной предпосылкой для исчезновения этой видимости, господствующей над всем обществом. Маркс комментирует это: «Вся эта видимость, будто господство определённого класса есть только господство определённых мыслей, естественно, прекращается сама собой, как только прекращается вообще господство классов».
Тем не менее, эта претензия на то, что классовое правление по сути своей является мыслью — и притом возвышенной — представляет собой серьёзную проблему, поскольку господство над умами позволяет возвеличить капиталистическое государство, отказаться от принуждения и удерживать общество исключительно с помощью разума; в этом, как будет показано, есть доля истины, даже если эта истина, правильно понятая и раскрытая, разрушает славу и обнажает голый эгоизм правителей. Для начала ознакомимся с концепцией Маркса о той роли, которую он отводит фактору разума в процессе закрепления господства одного класса над другим: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть вместе с тем и его господствующая духовная сила».
Здесь важно отметить, что, несмотря на равенство всех эпох, Маркс проводит существенное различие между средневековым феодальным и буржуазным эмансипированным государством. Если феодальное государство, чтобы выполнять возложенные на него как на государство задачи, всегда должно прибегать к открытому принуждению, то в условиях буржуазной эмансипации принуждение уступает своё первенство провозглашённой свободе и равенству, а значит, и духу. Иными словами, оставляя за собой сферу эгоистических интересов, как показывает Маркс в «Еврейском вопросе», и тем самым оставляя слабые классы на милость собственников, буржуазное государство, чтобы иметь возможность подтвердить свою «небесную» функцию классового государства, вроде бы служащего только равенству и свободе, требует духа, который заставляет фактическое неравенство и несвободу исчезнуть под видимостью этого равенства и свободы. Принуждение не исчезает, но элегантно отходит на второй план, с поклоном духу, который в условиях, ставших непрозрачными и мифическими для слепого сознания, лучше, чем принуждение, знает, как привести человека в чувство; принуждение остаётся в резерве, а именно «на все случаи жизни», которые, однако, не перестают реализовываться.
То, что буржуазный разум обладает такой силой, объясняется не только вышеупомянутой непрозрачностью капиталистического процесса, но и самим фактом формальной эмансипации, который резко подчёркивал Маркс и который, не затрагивая классовых отношений, предоставляет человеку формальное равенство и свободу и даже (с таким трудом завоёванные!) определённые политические права. Поэтому то, что Маркс говорит о роли мысли, разума господствующего класса, особенно применимо к буржуазному государству:
«Класс, имеющий в своём распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчинёнными господствующему классу. Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения … это, следовательно, мысли его господства. … поскольку они (индивиды правящего класса) господствуют также и как мыслящие, как производители мыслей; они регулируют производство и распределение мыслей своего времени; а это значит, что их мысли суть господствующие мысли эпохи».
В условиях буржуазного индивидуализма и формализма его «равенство и свобода», дух, претендующий быть ничем иным, как духом этого равенства и свободы, и поддерживаемый в этом реальной видимостью существования такого равенства и свободы, может стать совершенно иным средством власти для правителей, регулирующих его «производство и распределение», чем во времена, когда «корпоративная» дифференциация людей открыто встаёт на точку зрения их различий и столь же открыто использует принуждение, чтобы сделать эти различия очевидными, как «предначертанные Богом». Таким образом, роль духа в современных условиях изменилась. На этот факт необходимо обратить более пристальное внимание. Continue reading
Л. Кофлер: Утрата гражданина (1956)
Лео Кофлер
Со времён Маркса в социалистическом лагере стало традиционным брать за основу социологических и политических суждений дихотомию «гражданин – буржуа». В частности, в «Еврейском вопросе» Маркс остроумно проанализировал «разложение человека на гражданина и частного гражданина», которое возникает из-за «конфликта между общим и частным интересом». Маркс показывает, как общественный интерес порождает гражданина, заинтересованного в общественном благе, citoyen, а частный интерес одновременно и в одном и том же лице порождает эгоистичного частного гражданина, буржуа. Диалектическое напряжение между «citoyen» и буржуа в груди современного члена общества, однако, как учит нас самый современный опыт, приводит к различным формам поведения в зависимости от конкретных исторических и социальных ситуаций, которые всегда должны быть проанализированы заново. Если в период подъёма буржуазии буржуа так же часто побеждал горожанина (например, в вопросе о предоставлении избирательного права рабочим), как горожанин побеждал буржуа (например, в борьбе с феодализмом), то после победы буржуазии многое изменилось.
Несмотря на неразрешимое внутреннее противоречие в природе гражданина, поскольку оно основано на классовом делении общества, Маркс признает исторический прогресс, связанный с буржуазным обществом. Поэтому он может сказать: «Политическая эмансипация, конечно, представляет собой большой прогресс; она, правда, не является последней формой человеческой эмансипации вообще, но она является последней формой человеческой эмансипации в пределах существовавшего до сих пор миропорядка», а именно разделённого на классы.
Но с завершением этой политической, т.е. формально-демократической эмансипации, которая, таким образом, достигает стадии, на которой появляются первые признаки того, что она должна уступить место другой, более высокой, т.е. общественной эмансипации, выходящей за рамки формальной, буржуазия теряет интерес к эмансипации человека в целом. В период буржуазного прогресса и борьбы всегда оставался руководящим принципом идеал экономического строя, основанного на свободе, при котором каждый должен не только обладать достаточной собственностью, но и иметь возможность развивать свои силы, таланты и дарования до высоты того истинно человеческого существования, которое проистекает из гармоничной личности, упражняющейся в сбалансированном использовании своих умственных и духовных сил. Эта цель была поставлена сегодня социализмом, который признал, что она может быть (относительно) реализована только в бесклассовом обществе, потому что в классовом обществе гуманизация — очеловечивание — человека должна оставаться вечным противоречием в себе. Continue reading
Л. Кофлер: Марксов и сталинистский марксизм (1954-55)
[Передознулся я немного этим вашим анархизмом, кароч, а посему — нате вам остатки былого весёлого времяпрепровождения в моём безработном 2024-м. Кофлер (1907-1995) — родившийся на территории теперешней Украины австрийский философ и социолог, антисталинист, «лукачианец», автор бомбического исследования о буржуазной и социалистической бюрократии и совершенно угарных воспоминаний о жизни в ГДР. В 1950-м порвал с Социалистической единой партией и был вынужден бежать в ФРГ, опередив тем самым самого Блоха на несколько лет. Так что — вот. Enjoy! – liberadio]
I) Пропедевтика к различению позиций
Едва ли какая-либо другая теоретическая система испытала на себе судьбу быть неправильно понятой как сторонниками, так и противниками, как марксизм. Не желая вдаваться здесь в историю «критического», неверного толкования марксизма, отметим лишь, что мы вступили в эпоху новых недоразумений, вызванных искажением этой доктрины победившим на Востоке «марксистским» сталинизмом, а также, к сожалению, дискуссиями, хотя и в основном позитивными, которые начались в 1920-х годах в заинтересованных научных кругах по поводу ранних трудов Маркса, были прерваны при Гитлере и возобновились в последние годы. Мы не рассматриваем здесь последнее явление. Достаточно сказать, что одним из самых удивительных результатов этой дискуссии стало обвинение Маркса не в заумном материализме, а в преувеличенном гуманистическом и антропологическом идеализме, с заметной тенденцией одновременно принимать некоторые его социологические «материалистические» взгляды как значимые для социологии (ср. посвящённые Марксу конференции академий при протестантской церкви).
Но традиционное «материалистическое» заблуждение, которое, в свою очередь, принимало самые разные формы, не было преодолено, а продолжает преследовать умы, в частности, университетских преподавателей, из которых мы приведём лишь два примера (из соображений компактности). Профессор Боченски, преподающий в Женевском университете, утверждает: «Согласно историческому материализму, всё содержание сознания зависит от экономических потребностей» («Современная европейская философия», с.81).
Это определение не имеет ничего общего с марксистской точкой зрения; более того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что оно вообще немыслимо. Для Маркса «экономические потребности» не оказывают никакого влияния на формирование содержания мысли, а только общественные отношения, которые он называет «материальными», поскольку, по его мнению, они являются результатом явления труда — которое само по себе очень сложно и опирается на сознание — и, кроме того, выражают то, что, в отличие от непрактичного «идеального», обычно называют сферой «практики». Для того чтобы подкрепить свою точку зрения цитатой, которая ясно подчёркивает ошибку Боченски, следует привести следующие слова Маркса: «Экономические эпохи различаются не тем, что делается, а тем, как…» («Капитал», том I).
Мы видим, что даже в отношении «материальной» сферы Маркс отстраняется от идеи, что «что» экономической деятельности, служащей для удовлетворения «потребностей», определяет характер социальных эпох; скорее, решающим остаётся «как» процесса труда и основанные на нем межличностные отношения. Continue reading