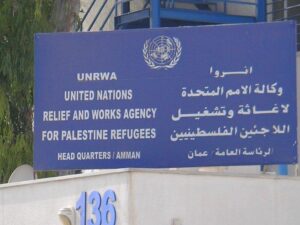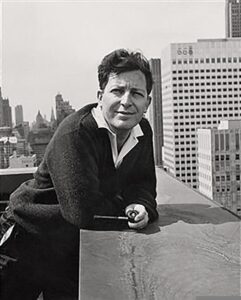Ричард Лэндс
Введение: переосмысляя империализм на Ближнем Востоке
 Преобладающая парадигма, касающаяся конфликта вокруг земли от Иордана до Средиземного моря, выглядит примерно следующим образом. Израиль — это последнее проявление западного империализма и колониализма, самого пагубного и всепроникающего империализма, который когда-либо знал мир, и от которого западные демократии отказались после Второй мировой войны. Они пришли в 20-м веке, вытеснили коренных жителей и украли их землю. Насилие палестинцев против израильтян полностью оправдано в ответ на это ужасное преступление.
Преобладающая парадигма, касающаяся конфликта вокруг земли от Иордана до Средиземного моря, выглядит примерно следующим образом. Израиль — это последнее проявление западного империализма и колониализма, самого пагубного и всепроникающего империализма, который когда-либо знал мир, и от которого западные демократии отказались после Второй мировой войны. Они пришли в 20-м веке, вытеснили коренных жителей и украли их землю. Насилие палестинцев против израильтян полностью оправдано в ответ на это ужасное преступление.
Майкл Мерриман-Лотце четко сформулировал это, сравнивая насилие, которое исходит от израильской и арабской стороны:
«Короче говоря, я считаю, что израильское насилие — это насилие, которое должно применяться для поддержания неоколониальной военной оккупации и неравенства, подобного апартеиду. Палестинское насилие – неизбежный ответ на эту оккупацию и неравенство, подобное апартеиду. Поэтому насилие прекратится только тогда, когда прекратится оккупация и израильский апартеид».
Хотя я считаю, что этот нарратив и оправдание, которое он даёт немыслимому в иных обстоятельствах поведению, ошибочны как с эмпирической, так и с моральной точки зрения, я думаю, что он имеет полное право быть озвученным в публичной сфере и восприниматься всерьёз. Однако я не думаю, что эта точка зрения уместна, если она требует от своей аудитории, чтобы та не знакомилась с альтернативными анализами. Вот мой серьёзный ответ.
Рассмотрим имперско-колониальную парадигму и то, что она предлагает нам для понимания того, как имперские и колониальные импульсы способствовали возникновению этого непрекращающегося конфликта. Несомненно, жажда господства и превосходства играет ключевую роль во многих войнах, которые обычно решаются битвой, в которой одна сторона уничтожает армию другой и устанавливает своё господство. Схема, когда закалённые воины, пришедшие с окраин общества, приверженные сверхморальной солидарности (моя сторона — неважно, правая или неправая), с успехом побеждают империю, которая через несколько поколений становится мягкой и жертвой другого голодного племени, вдохновила социального историка Ибн Халдуна принять её как закон политического поведения.
Но империи обладают не только военным превосходством, они обладают культурной силой, которая лучше всего проявляется в колониальном аспекте их деятельности, в их повседневном превосходстве над завоёванными народами. Когда западные прогрессисты выступают против «колониального империализма», они выступают против культур, чьё чувство превосходства над другими настолько велико, что они имеют право подчинять их и эксплуатировать под угрозой уничтожения. И, как вам скажет любой прогрессист, мы категорически отвергаем такие вещи.
Но если бы прогрессивные антиимпериалисты признали, что их («западная») культура — пока единственная имперская культура, отказавшаяся от права господства, и задумались о последствиях этого замечания, они бы осознали фундаментальную концептуальную ошибку: отказавшись от господства, Запад (на пике своей военной гегемонии) отверг бы международную норму, которая управляла международной культурой во всем мире на протяжении тысячелетий. Таким образом, экзотические «другие», такие как население и культуры Востока, всегда и до сих пор играют по принципу: la raison du plus fort est toujours la meilleure (разум сильнейшего — всегда лучший). Властвуй или починяйся. Поступай с другими так, чтобы они не поступали так с тобой.
Арабско-мусульманский имперский колониализм
Однако, полагая, что Запад — единственная имперская сила, которую стоит обсуждать (и осуждать), прогрессивные историки имеют заметную тенденцию игнорировать полуторатысячелетнюю историю исламского и арабского империализма. А ведь именно такой путь мысли и анализа ведёт к прогрессивному разрешению глубокого конфликта.
Из всех древних империй, которые поднимались и падали, самой прочной оказалась последняя, монотеистическая империя ислама. Во времена Мухаммеда арабы были воинственными племенами, проживавшими в основном на Саудовском полуострове. И всё же за столетие после его проповеди ислам распространился и охватил территорию от Ирана до Испании. По своим масштабам и прочности это было самое потрясающее имперское завоевание в мировой истории.
Одним из важнейших показателей проникновения завоевания является его влияние на язык. Возьмём Англию. Когда англы и саксы вторглись в 6-м и 7-м веках, они вытеснили кельтских жителей и заменили их язык германским (англосаксонским). Когда вторглись скандинавы в 9-м т 11-м веках, они оказали ограниченное влияние на английский язык. Когда в 1066-м году в страну вторглись европеизированные норманны, языковая война между их аристократическим французским и родным простонародным английским продолжалась несколько столетий, и в конце концов в результате брака языков английский стал одним из самых богатых известных языков.
В двух крайних точках мусульманского завоевания арабский язык не стал доминирующим. Шиитский Иран сохранил свой язык и большую часть своей культуры, а в Испании завоевание развернулось с 11-го века, оставив лишь ограниченный след в языке местных жителей. Но от Ирака до Марокко произошло нечто гораздо более колониальное и захватническое. Арабы пришли как победоносные мусульмане и настолько доминировали во всех аспектах этой обширной полосы культур и языков, что их язык (и многие другие) доминировал повсюду, в значительной степени подавляя и заменяя почти все местные языки (см. берберы).
Я отмечаю это, потому что важно понять удивительную преемственность между этим завоеванием и современным арабским миром. Действительно, сходство между отношением арабов в современности и в раннем Средневековье поразительно по ключевым моментам: Continue reading →