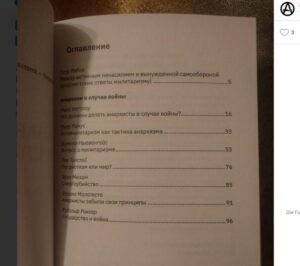Рассказ о том, как активистки и учёные подменили борьбу за универсальные улучшения в жизни женщин на политику разделения и ненависти. [Истинно говорю вам (уже в который раз): этот постструктурализм и прочие «пост-» суть серьёзное заболевание, сравнимое с разжижением головного мозга. Сначала оно разрушает способность к рациональному суждению, а потом переходит и на этику, в том числе — на политическую и сексуальную, порождая в конечном итоге то, что Райх называл «эмоциональной чумой». Если кому-то ещё нужны доказательства и аргументы — ласково просимо. – liberadio]
Кара Джеселла, 15.12.23
I. Так было не всегда
В моей академической жизни мне посчастливилось в том, что мой первый курс по женским исследованиям вёл раввин, а второй – Анджела Дэвис. В Вассарском колледеж в 1990-е годы, когда я была одержима идеей мультикультурализма и идентичности, я узнала от раввина Ширли Идельсон о интерсекциональности и чёрном феминизме, и меня научили, что если я не понимаю испанский язык в ставшей канонической антологии «This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color», я должна найти того, кто понимает, и перевести его для меня. Я также узнала, что могу быть еврейской феминисткой, разбирая свою сложную личную и общинную историю в поисках теоретических идей, как это делала моя любимая теоретик Адриенн Рич.
В течение тринадцати лет, когда я была одной из единственных евреек в католической школе, которую я посещала, мальчик, которого я иногда считала своим парнем, рисовал свастику на обложках моих книг. Начальница на моей летней работе был в восторге, узнав, что я собираюсь поступать в Вассарский колледж, «даже если там будет много JAPs» (JAP, как она объяснила, это jewish american princess). Я не писала о панике вступления в совершеннолетие в то время и в том городе, где «Operation Rescue» каждые выходные пикетировала клиники абортов и скандировала «убийцы младенцев». (Статья 1990-го года в еврейском феминистском журнале «Lilith» была озаглавлена «Движение против выбора: Плохие новости для евреев»). Через год после окончания школы — я уже бежала в Нью-Йорк — Барнет Слепиан, местный еврейский врач, делавший аборты, был убит членом католической группы против абортов, когда он возвращался из школы.
Тем не менее в своём первом сочинении на уроке раввина Идельсона я сравнила свой собственный опыт расизма с опытом чернокожих американцев и пришла к выводу, что у американских чернокожих он ещё хуже. «Мне кажется, вы приглушаете ужас свастики», – заметил раввин Идельсон, ставя мне оценку А-/А. Позже, на занятиях профессора Дэвиса, я узнала, что термин «цветные женщины» – это не меланин, а образная политическая формация. Эти два занятия повлияли на все, чем я занималась в дальнейшем: на получение степени бакалавра по женским исследованиям, на годы работы феминистской журналисткой и автором книг, а также на докторскую степень, которую я получила два года назад, когда наконец-то защитила диссертацию по феминистской историографии.
Май 2021-го года был печальным и страшным месяцем для еврейской феминистки, поскольку на Ближнем Востоке и в Нью-Йорке, где я по-прежнему живу, нарастало насилие. Друзья из аспирантуры и феминистского интернета размещали в социальных сетях антисионистскую инфографику, а перед еврейским детским садом, куда ходит моя дочь, дежурила группа полиции по борьбе с терроризмом. Утром в день моего выпуска я проснулась и обнаружила, что в Твиттере циркулировала петиция под названием «Факультеты гендерных исследований солидарны с палестинским феминистским коллективом». В ней мне сообщили, что евреи — колонизаторы, а не коренные жители Израиля, и отвергли определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста. Через два дня я получила электронное письмо от своего факультета с сообщением о награде и ещё одно с выражением солидарности с палестинским народом. Трудно было понять, что именно это означает — кто не хочет лучшей жизни для палестинцев? Но, учитывая политику факультета, я могла и догадаться.
Но это была лишь прелюдия к тому, что должно было произойти после зверств, совершенных ХАМАСом против кибуцев на юге Израиля 7-го октября. Около 1200 мужчин, женщин и детей были убиты, а ещё 240 попали в плен и были брошены на произвол судьбы в Газе. Но не успели остыть тела погибших, как прогрессивные друзья и коллеги стали выкладывать в социальные сети изображения палестинских флагов и парапланов, а также переименовывать агрессоров в жертв.
Ещё более шокирующей была феминистская реакция на сообщения о пытках и сексуальной жестокости, которые стали появляться после резни. Многие феминистки либо неохотно, либо демонстративно не желали проявлять ни малейшей солидарности с израильскими женщинами. Вместо этого их приоритетом стала поддержка призывов к «деколонизации Палестины любыми необходимыми средствами». Изнасилования и сексуальные нападения теперь либо презирались, либо отрицались, а в некоторых случаях даже оправдывались как законные или, по крайней мере, понятные действия угнетённого народа. Нет никаких очевидных причин для феминисток поддерживать ХАМАС, а не Израиль, учитывая регрессивные представления о женской свободе и гендерных ролях, изложенные в основополагающем завете первого. И все же некоторые феминистки посещали демонстрации против Израиля, на которых скандировали лозунги уничтожения, а другие портили плакаты с изображением пропавших без вести во имя «свободной Палестины». Даже Совет ООН по делам женщин медлил, и ему потребовалось восемь недель, чтобы осудить сексуальное насилие со стороны ХАМАС.
Так было не всегда. В годы, предшествовавшие началу Второй интифады в 2000-м году, в журналах и газетах появлялись статьи, книги и конференции, посвящённые иудаизму и антисемитизму. Еврейские феминистки выражали свою любовь к Израилю или, по крайней мере, признавали, что эта страна должна существовать. А когда критика израильской политики все же появлялась, она часто исходила от самих еврейских феминисток, которым было несложно отличить граждан Израиля от действий их правительства. «Еврейские лесбиянки-феминистки не могут не относиться критически к нынешнему израильскому правительству», – пишет Эвелин Тортон Бек, профессор женских исследований, ребёноком пережившая Холокост, в книге «Nice Jewish Girls: A Lesbian Anthology», опубликованной в 1982-м году. «В своей писательской деятельности и активизме я поддерживаю как палестинское, так и еврейское национальные движения», – написала Элли Булкин в книге «Yours in Struggle: Three Feminist Perspectives on Anti-Semitism and Racism», опубликованной в 1984-м году. Continue reading →