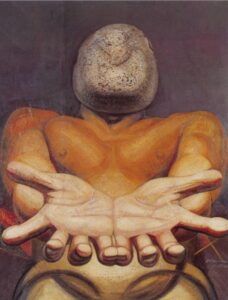[Волфф (1933-2025), исследователь марксизма и анархизма, против заблуждений либерализма. Сегодня он был бы против постмодернистского иррационализма и трибализма. – liberadio]
Как и все политические философии, либеральная политическая теория основана на интерпретации человеческой природы. В своей наиболее изначальной форме – и именно так философия часто раскрывает себя лучше всего – либерализм рассматривает человека как рационально расчётливого индивида, увеличивающего удовольствие и уменьшающего страдание. Слово «хорошо», говорит Бентам, означает «приятно», а слово «плохо» – «болезненно». Во всех наших действиях мы стремимся к первому и избегаем второго. Таким образом, рационализм сводится к расчётливой осторожности; его высшая точка достигается, когда мы благоразумно воздерживаемся от сиюминутного удовольствия из-за страха перед будущей болью. Конечно, общеизвестно, что такое бухгалтерское отношение к эмоциям является прямым отражением отношения буржуазного торговца к прибыли и убыткам. Не менее важно, однако, и то, что эта теория подразумевает для отношений одного человека к другому. Если простой психологический эгоизм либеральной теории верен, то каждый человек должен рассматривать других как всего лишь инструменты для достижения своих личных целей. Формулируя свои желания и изобретая самые хитрые средства их удовлетворения, я обнаруживаю, что действия других людей, преследующих схожие отдельные цели, могут повлиять на исход моего предприятия. (…) Для меня другие люди — это препятствия, которые нужно преодолеть, или ресурсы, которые нужно эксплуатировать, то есть — всегда средства и никогда не самоцель. Образно говоря, общество похоже на замкнутое пространство, в котором движется множество сферических воздушных шаров, наполненных расширяющимся газом. Каждый шар увеличивается в размерах, пока его поверхность не коснётся поверхности других; затем он перестаёт расти и сливается с окружающей средой. Справедливость в таком обществе могла бы означать лишь то, что внутреннее пространство каждого воздушного шара (личная сфера у Милля) защищено и что всем предоставлено равное пространство. То, что происходит внутри одного человека, не касается других.
В более сложных версиях либеральной философии грубый образ человека как источника удовольствия несколько смягчается. Милль признаёт, что люди способны преследовать более высокие цели, чем удовольствие (…), и даже допускает возможность альтруистических или иных, связанных с этим, эмоций сочувствия и сострадания. Тем не менее, общество продолжает рассматриваться как система независимых центров сознания, каждый из которых стремится к собственному удовлетворению и сталкивается с другими, которые для него являются существами, выступающими как фиксированные сущности, противостоящие Я, то есть как объекты. Состояние индивида в таких обстоятельствах – это то, что другая традиция социальной философии назвала бы «отчуждением». (…)
Фундаментальное понимание консервативной философии заключается в том, что человек по своей природе существо социальное. Это не просто означает, что он общителен и любит общаться с себе подобными, хотя это справедливо как для человека, так и для обезьян и выдр. Человек социален в том смысле, что его сущность, его истинное бытие заключается в его принадлежности к человеческому сообществу. Аристотель на первых страницах своей «Политики» утверждает, что человек по своей природе предназначен жить в сообществе. Те люди, которые предпочитают жить вне такого сообщества, говорят он, либо ниже, либо выше людей, то есть они либо животные, либо ангелы. Человек подобен животным по своим телесным желаниям, а по разуму подобен ангелам. В определённом смысле, следовательно, либерализм совершил ошибку, предположив, что человек есть не что иное, как сочетание животного и ангельского, страстного и разумного. Из такого предположения естественным образом следует, что человек, подобно диким животным и ангелам, по своей сути одинок.
Но, как говорит Аристотель, у людей есть свой уникальный для вида способ существования, основанный на специфической человеческой способности к общению. Этот способ существования — общество, человеческое сообщество, скреплённое рациональным дискурсом и общими ценностями. Мудрость и страсть объединяются, образуя рациональный калькулятор удовольствий, но они не составляют человека.