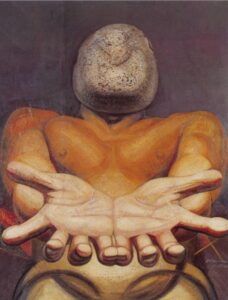Мне вообще-то в последнее время сильно влом бложиком заниматься, я каюсь, как-то в последнее время всё больше для Das Grosse Thier. Это и есть причина тому, что я пишу об этом занимательном мероприятии международного масштаба спустя месяц. Таки съездил в Берлин, посмотрел на это антисемитское безобразие своими глазами, но толковых фотографий сделать не получилось.
Есть, короче, такое дело. Происходит с инициативы шиитского мракобесия в Иране с 1979 года по наши дни. Судя по всему, везде, где есть про-иранские организации с хоть каким-то административным ресурсом, профессиональные палестинские страдальцы, любители теорий заговора, а в последнее время и турецкие “Серые волки”. Эрогану тоже хочется стать защитником веры и торжественно взять Иерусалим под своё покровительство. В общем, везде, где только можно. А в этих ваших Берлинах пару лет назад на демонстрации выступил и широко известный в узких кругах Юрген Эльзессер.
В этом году было скучновато. Иранский флаг был только один, один турецкий, кажется, тоже, флаги Хезболлы достать что-то совсем постеснялись. Полиция запретила сжигать куклы и израилькие флаги. До и после демонстрации обошлось как-то даже без насилия со стороны демонстрантов – надо было произвести на общественность хорошее впечатление. Они же за мир во всём мире. Который, согласно, типичным антисемитским фантазиям, наступит только после уничтожения израильской государстенности, ну, да не суть. Такой мир любят все, и правые, и левые.
Посему около тысячи демонстрантов (и множество “освобождённых женщин Востока”, кстати) дисциплинированно стояли и ходили строем по команде некоего немецкого конвертита в ислам по имени Юрген Грасман, который барыжит где-то в Берлине православными иконами. Вот он и рассказывал с грузовичка всё то, что все антисемиты знают и так: “Исламское государство”, “наводнение” Европы беженцами и применение химического оружия против иракских курдов в 80-х – всё дело кровавых ручонок сионистов. Выступал ещё некий Кристоф Хёрстель, специалист по теориям заговора из Постдама. Злостные сионисты в городской администрации Берлина также устроили рядом с местом проведения демонстрации стройку, чтобы борцам с мировым злом досталось меньше места на улице. У Ангелы Меркель еврейские корни, поэтому она пытается развязать гражданскую войну и разрушить Германию, приглашая в неё беженцев-террористов. Был ли Гитлер “агентом сионизма”, это такой себе вопрос… Такой непростой, гыгыгы. Но новинка сезона порвала нашу весёлую компанию с краю в клочья: это Путин, оказывается, а не столько США, поддерживает Израиль баблом и оружием – т.к. израильское общество в значительной мере состоит из “руссим”.

Юрген Грасман, например. https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitische-demo-in-berlin-wer-steckt-hinter-dem-al-quds-marsch/22653804.html#!kalooga-20590/~%22Adolf%20Hitler%22%20~Hisbollah%5E0.75%20~Hamas%5E0.56%20~chomeini%5E0.42
Организация, особенно хореография оставлает желать лучшего. Оратор должен был по ходу марша давать толпе лозунги, типа “Никакой поддержки сионистам!” или “Никаких больше убитых детей!” (репертуар богатый), на что толпа должна была отвечать “Никогда, никогда больше!” Ну, на “Палестина будет свободной” и “Миру мир” дисциплинированное стадо антисемитов тоже отвечало хором: “Никогда, никогда!” Короче, ёбаный стыд напомнил инцидент с “A big strong strong cock!”
Не обошлось и без обязательного фигового листочка антисионистов – ортодоксальных евреев из секты “Нетурей карта”, которые считают Гитера инструментом божьего провидения, а Холокост – божьей карой. Для организаторов – это, собственно, “истинные евреи”. Все остальные, видимо, жиды.
Короче, скукота в этом вашем Берлине. Провинция, одним словом.
С такими друзьями Палестине и врагов не надо.
А в то же время: критику мракобесного иранского режима и его друзей и агентуры в Германии Казему Мусави приходится защищать своё право критиковать мракобесов в суде. Support!
Такие дела.

 Im Sommer 2016 löste die russländische Öffentlichkeit eine schwierige Aufgabe mit Bravour – einem berühmten Mann zum 40-Jährigen etwas zu schenken, was er nicht hat. So bekam der Präsident der Tschetschenischen Teilrepublik Ramsan Kadyrow eine eigene reality show „Das Team Kadyrow“
Im Sommer 2016 löste die russländische Öffentlichkeit eine schwierige Aufgabe mit Bravour – einem berühmten Mann zum 40-Jährigen etwas zu schenken, was er nicht hat. So bekam der Präsident der Tschetschenischen Teilrepublik Ramsan Kadyrow eine eigene reality show „Das Team Kadyrow“