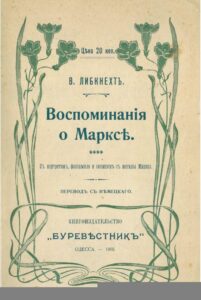Анархизм известен своим плюрализмом в том смысле, что существует множество философов и множество школ без очевидных сходств за исключением отрицания политического суверенитета, заключённого в понятии «анархия». Неслучайно, что анархизмом часто считают семейство минимально связанных друг с другом идей, которые отвергают легитимность государства и (обычно) требуют его упразднения. Данное видение, хотя в его пользу могут быть процитированы тексты, узко; т.к. анархизм не столько выступает просто против государства, это – в некотором смысле, идея или теория свободы. Но вот это «не просто», эта «свобода» не определены и нуждаются в дальнейшем разъяснении.
Я предлагаю тут видение анархизма, способ понимания его в общепринятых терминах, который, как я надеюсь, покажет его важность и его значение. Это проблематичное предприятие, оно довольно отличается от изучения мыслей некоего отдельного анархистского теоретика. Оно требует решений насчёт того, кто является сущностным в различных анархистских традициях, и существует большой риск, что результаты скажут больше о предпочтениях и предрассудках автора, чем о прошлом и будущем анархизма. Если быть более точным, то настоящее сочинение служит выражением моей интуиции, основанной главным образом на моём личном опыте анархизма, того, что является для него центральным и что – наиболее ценно в этом смысле для человеческого общества и отдельного индивида. В ходе попыток сформулировать мою интуицию так точно, как только возможно, я пришёл к нескольким фундаментальным выводам, оказавшимся для меня новыми и поучительными.
Мои рассуждения объективны по своей форме и имели своей целью философские исследования. Мне хотелось бы, в любом случае, прояснить, в особенности потому, что я считаю, что то, что человек думает и полагает знать объективно, неотделимо от его убеждений (откуда он, как говорится в просторечье), что я придерживаюсь такой позиции или ориентации, которую я называю анархистской.
Как я объясню позже, способностью анархизма, скорее, как живой идеи, а не интеллектуальной способности, является способность угнетённых людей, выразить своей гнев касательно их угнетения и угнетения их товарищей; цель анархизма — служить средством для окончания этого угнетения. Насколько можно оценить значение чужих, не собственных, жизненных условий – это вопрос, энергично ставящийся чернокожими и женщинами — я не уверен. (Я переживал угнетение, но не в форме постоянного фактора, накладываемого на меня обществом и условиями; в общечеловеческой семье я был относительно привилегированной персоной). Как бы то ни было, я убеждён, что анархизм может обрести значимость только, если у человека есть конкретное ощущение общественной реальности – я боюсь, что не знаю более точных условий, при которых оно возникает, и надеюсь, что постоянно сохранял эту реальность, а собственно, человеческое понятие угнетения, перед глазами.
Анархическая идея
В целях подготовительной концепции анархизма и того, что я называю общепринятыми терминами, сравнение и противопоставление роли идей и идеологии в истории социализма и анархизма обозначит нашу методику, менее запутанную, чем может показаться на первый взгляд.
Анархизм обычно называется идеологией, и в некотором смысле этого слова, который каждый определяет как хочет, эта характеристика будет верной, хотя и не особенно информативной. Я предпочитаю определять идеологию в духе Маркса и Маннгейма, как априорическую и рационализированную систему убеждений, служащую для оправдания и мистификации власти и могущества некой социальной группы или некоего комплекса институций. (Это определение должно было объяснять трансцендентальные идеологии, т.е. теологию, а также общественные идеологии). Хотя я и считаю, что этот термин обладает более широкой теоретической пользой, читатели вправе рассматривать это определение, которому в этом исследовании отводится тематическая функция, как инструмент для создания различий, полезных для прояснения статуса анархизма. Социализм до Маркса выражал не до конца сформулированный, но ни в коем случае не абстрактный идеал, который в общих чертах можно описать как упразднение буржуазной собственности, экономической эксплуатации и классового разделения, восстановление чести труда и учреждение полезного производства. При помощи философии и общественных наук Маркс пытался создать для социализма методологию и оправдание его целей. В последствии, в исторически значительных течениях социализма, марксистская теория или, возможно, выражаясь более точно, удобно разжёванные философия и методология Энгельса стали доктринёрской правдой: прежде всего в среде немецкой социал-демократии и американского делеонизма, а затем — в ленинизме и его производных. «Ортодоксия», «уклонения», «ревизионизм» и прочие отсылы к закостенелой терминологии псевдо-теологической системы, введённые централизованной партией, сигнализируют об этом превращении. Последняя стадия марксизма, эти системы правды, являются абсолютно идеологическими в смысле данного выше определения.
(То, что разновидности марксизма, которые делили мировую сцену истории являются априорическими системами веры, основанными на определённых доктринах, широко признано в отношении ленинистских течений. Если рассматривать ленинизм как оправдание и мистификацию на службе правящей общественной группы мало принято, то отчасти потому, что с буржуазной точки зрения, идеологической самой по себе, это кажется прозелитацией веры. Я вижу его первичную функцию в оправдании власти партийного руководства над её членами, власти, актуальной и будущей, партии над обществом, и в одурманивании людей. Ленинистский марксизм, следовательно, оказывается идеологией государственной власти, сливающейся — апроприирующей или, может быть, апроприированной — с идеологиями национализма. Социал-демократия, конечно, пришла к соглашению с капиталистической идеологией). Continue reading →