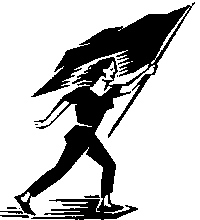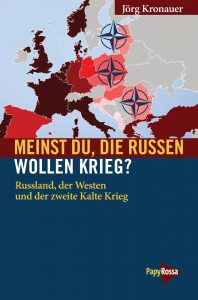Феликс Ридель
«Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня», – такими словами Суламифь в библейской «Песне песней» оправдывается перед своим окружением. Её самоуверенное обращение: «Черна я, но красива…», очевидно, оказало своё воздействие: эта фраза украшала в эпоху романтизма в искусстве многочисленные изображения «чёрных мадонн» и доказывает, что «black is beautiful» по протяжение столетий было частью европейской культуры. Римская империя и Средневековье создали множество мозаик, скульптур, геральдики и картин, позитивно изображающих людей с тёмной кожей. Расизм не является исторической судьбой. Но тем не менее, защитная речь Суламифь служит и свидетельством античного расизма.
Но многие исследования по теме начинают где-то в 15-м веке. Они рассматривают расизм и антисемитизм как феномены Современности. Исторический материал опровергает этот миф. Так, например, Беньямин Исаак в своей книге «The Invention of Racism in Classical Antiquity» показывает, насколько распространены были элементы расизма в Античности. Уже античные общества знали этноцентристский супрематизм «цивилизованных» в противопоставлении «варварским народам», верили в предполагаемое влияние ландшафта и климата на человеческий характер и объединяли людей по их внешним признакам или происхождению в коллективы. Тёмная кожа, например, ассоциировалась с фекалиями и смертью. Примером в этом контексте может служить утверждение Аристотеля, что рабы и побеждённые народы рождены для рабства.
Оправдание власти
Ядро расизма можно показать и в аристократических фантазиях: они объявляют власть передаваемой по наследству и эстетически превозносят её. В этой связи, об античных и средневековых текстах часто говорят как о «проторасизме». Подобные высказывания в наше время мы бы расценили как расистские.
Речь тогда шла, как и сегодня, об оправдании иерархий и власти. Так, раннехристианский учёный Ориген ещё в третьем столетии отвечает на вопрос, почему Бог заставляет людей жить в нищете языческого «варварства», следующим образом: перерождение людей в «низших» обществах обосновано их собственной виной в предшествующей жизни. Возникающий из этого миф о, якобы, любимых Богом властителях в отличие от справедливо наказанных подданных позднее обнаруживается в кальвинизме и буржуазной идеологии. Для христианства это было довольно простым шагом — перейти от «печати Каина» в Библии к целым «отмеченным» и «наказанным» Господом плохими условиями жизни обществам, которые заслуживали своего порабощения.
Вне Европы также обнаруживаются древние формы проявления расизма. Индуизм, например, своей кастовой системой обесценивает тёмную кожу. Исследовательница саскрита Уэнди Донигер пишет в своей книге «The Hindus»: «Британский расизм (…) мог водрузиться на уже существующие индуистские идеи о тёмной и светлой коже. (…) Индийская культура создала свой расизм, прежде чем британцы обратили его против Индии». А в исламе африканские рабы и рабыни привлекались к более тяжёлым работам. Их восстания «занджи» подавлялись в Месопотамии и были задокументированны ещё в 689-м году н.э. Ругательные обозначения для чёрных «занджи» и «абид» до сих пор свидетельствуют о расистской дискриминации в исламе.
Виноваты жертвы
Расизм был успешен как модель легитимации власти, ибо он обращается к психологическим схемам, возникающим вне зависимости от культуры в раннем детстве: патологическая проекция, преследующая невинность, фантазии инцеста и кастрации, а также злокачественный нарциссизм. Из этого подпитывается внеисторическая стабильность охоты на ведьм, антисемитизма и расизма. Расизм позволяет беспринципность без эмпатии, власть без угрызений совести. Чувство вины задевает нарциссические структуры и проецируется на жертвы: их единственной виной было подчинение, а насилие служит их справедливым наказанием. Расист видит себя как великодушного благодетеля. Необходимость этой рационализации указывает на то, что расизм является осознанной ложью — а не просто невежеством или чистой властью. Continue reading