von Good Paulman / Würzburg
erscheint in der Septemberausgabe der GaiDao 33/2013
 Am 25. Juni dieses Jahres fingen mehrere Menschen einen Hungerstreik in München an. Das war eine Fortsetzung der vergangenen Proteste, die sich von Würzburg ausgehend (1) in viele kleinere und größere Städte der BRD verlagerten. In diesem Sommer kehrten sie zurück nach Bayern, um weiterhin gegen die menschenverachtende Politik der Landesregierung, die sich am rigorosesten an ihrem Lagersystem festklammert (2), zu kämpfen.
Am 25. Juni dieses Jahres fingen mehrere Menschen einen Hungerstreik in München an. Das war eine Fortsetzung der vergangenen Proteste, die sich von Würzburg ausgehend (1) in viele kleinere und größere Städte der BRD verlagerten. In diesem Sommer kehrten sie zurück nach Bayern, um weiterhin gegen die menschenverachtende Politik der Landesregierung, die sich am rigorosesten an ihrem Lagersystem festklammert (2), zu kämpfen.
Im Grunde genommen, widerfuhr den protestierenden Geflüchteten nichts anderes als dieselben Tricks und dieselben Lügen der Machthaber*innen, die sie bereits ausreichend in Würzburg, Berlin und an anderen Orten kennen gelernt haben. Verhandlungen, die nur dafür geführt wurden, um Image-Schaden von der Stadt abzuwenden und nicht um (noch) lebendige Menschen aus ihrem Elend zu erlösen. Erneut war das der Grund, warum der Hungerstreik eskalieren und sich in einen trockenen Hungerstreik verwandeln musste. Am 30. Juni, um 4:30 stürmten schließlich etwa 300 Bereitschaftspolizist*innen das Camp am Münchener Rindermarkt, um es zu räumen und den in der Tat sehr gefährlichen Hungerstreik zu beenden. Davor mussten aber die Verantwortlichen erst ein mal gefährliche Tatsachen schaffen: ein Arzt erklärte die Geflüchteten in Lebensgefahr, ohne sie zu untersuchen, Medien hetzten gegen das Camp. Als die Gründe für diese Art „humanitärer Intervention“ in der Welt waren, war es soweit: da durften die bayrischen Polizeibeamt*innen ihren Hang zur Gewalt ausleben, die geschwächten Geflüchteten auf den Polizeistationen misshandeln, einigen von ihnen die notwendige medizinische Hilfe verweigern und die anderen in Krankenhäusern zwangsernähren. (3)
Tage davor bezogen sich die Geflüchteten am Rindermarkt auf den RAF-Terroristen Holger Mains. (4) Es schien, als hätten die Machthaber*innen die Botschaft verstanden und den Protestierenden mittels Zwangsernährungen ohne zu viel Worte vorgeführt, was sie (genau wie Holger Mains damals) dem Souverän sind: eine rechtslose Masse an Menschenfleisch.
Dass die bayrische Unterabteilung des deutschen Souveräns so zynisch von „humanitären“ Gründen und „menschenrettenden Maßnahmen“ schwafelte, wird wahrscheinlich nicht ein mal mehr den zeitunglesenden Wohlstandpöbel Münchens täuschen. Denn dieser hat öfters am Camp vorbei geschaut und sich lautstark gewünscht, dass diese Schande aus ihrem schönen München endlich verschwindet. Was die „humanitären“ Gründe den Verantwortlichen aus der Politik und Verwaltung bedeuten, ist ebenfalls sehr einfach zu bestimmen: sie lassen die Menschen lieber an den europäischen Grenzen zu tausenden umkommen oder in der Hölle der Erstaufnahme- und Rückführungslager schmoren, nur nicht medienwirksam mitten in München sterben.
Das sind jetzt wiederum die Gründe dafür, dass Mitte August (voraussichtlich am 20.08.) ein weiterer Protestmarsch startet. Die eine Route verläuft von Würzburg über Nürnberg und Augsburg nach München, die zweite – von Bayreuth über Regensburg und Landshut. Das voraussichtliche Ankunftsdatum ist der 1. September. Unterwegs werden die Beteiligten einige der vielen bayrischen Asyllagern besuchen, die Situation vor Ort studieren, von ihrem Kampf berichten und die Insassen auffordern, aus dem Verwaltungsapparat auszubrechen und sich dem Kampf anzuschließen. (5)
Für uns, die wir direkt von solchen menschenverachtenden Maßnahmen des deutschen Staates (noch) nicht betroffen sind, für Freundinnen und Freunde der Geflüchteten, für Anarchistinnen und Anarchisten, stellt sich immer wieder dieselbe Frage: wie können wir diesen Kampf unterstützen? Dazu ließe sich vieles sagen und wir müssen weit ausholen.
Die Aktivist*innen der Refugee Tent Action bedienten sich für ihre Überlegungen einiger Ausführungen vom bekannten politischen Philosophen Giorgio Agamben. So richtig mir die Annahme scheint, dass das System der modernen Nationalstaaten zerfällt, dass es folglich immer schwieriger sein wird, für die wenigstens in der Form der Bürgerrechte enthaltenen und mitgedachten universellen Menschenrechte einzustehen, so gefährlich scheint mir die Affirmation der Zumutungen, die Agamben in seinen Thesen vollbringt: „Auf jeden Fall ist, so lange, bis die Nationalstaaten und ihre Souveränität erloschen sein werden, das Dasein als Flüchtling die einzig denkbare Kategorie, in der sich Formen und Grenzen neuer, zukünftiger politischer Gemeinwesen vorstellen lassen. Es kann sogar sein, dass wir, um für die neuen Herausforderungen, die auf uns warten, gewappnet zu sein, die bisherigen Kategorien (Menschenrechte, Bürgerrechte, die Souveränität des Volkes, die Arbeiterklasse usw.), in die wir uns als politische Subjekte eingebunden sahen, aufgeben und, ohne einen bedauernden Blick zurück, unsere politische Philosophie von Grund auf neu gestalten müssen. Den Anfang dazu bildet die einzigartige Figur des Flüchtlings oder Staatenlosen“. (6)
Zuweilen klingt Agambens Vorschlag als Einladung zum bloßen Fleischsein, dazu, was der überforderte Staat und das übersättigte Kapital eh aus dem ungebrauchten menschlichen Material zu machen trachten. Eine Position, die keinen Kampf für das eigene und gemeinsame Glück mehr gestattet, sondern viel mehr zum Einverständnis mit der Herrschaft verleitet.
In ihrer eigenen Analyseschrift „Zur Position ‘Asylsuchender’ und ihre Kämpfe in modernen Gesellschaften“ leiten die streikenden Geflüchteten den Rassismus von der kapitalistischen Irrationalität ab. Im Wesentlichen geht es darum, wer vom Staat das Privileg bekommt, im wirtschaftlichen Sinne als verwertbar anerkannt zu sein.
„Ein deutliches Beispiel hierfür ist der Blickwinkel und Diskurs vieler Aktivist_innen, die sich an der Bewegung der letzten 11 Monate beteiligten. Viele dieser Leute und Gruppen (einige von ihnen sind seit langem in die Verteidigung von Geflüchteten-Rechten und in Kämpfe gegen Rassismus involviert) glauben, dass die staatlichen Regulierungen bezüglich der Leben Geflüchteter kulturelle Überbleibsel der Epoche ‘weißer’ Europäischer Kolonisierung oder der Zeit faschistischer Herrschaft sind. Jedoch leben wir in einer Zeit fortdauernder ökonomischer Krisen und die Zunahme radikaler Potentiale der Arbeiter_innen-Klasse gingen einher mit dem Erscheinen neuer Formen von Rassismus. Die Zunahme neofaschistischer Überzeugungen und Verhalten, die von rechts-populistischen Teilen der Regierung gefüttert werden und die Leute, die als ‘Ausländer’, Linke oder beides betrachtet werden, attackieren, verschleiern die wahren Gründe der Krise. Zugleich verhindern sie die Ausformung radikaler Alternativen. Im Prinzip gilt es in dieser Situation, jede Bemühung, Rassismus zu bekämpfen, zu unterstützen. Doch die Idee, dass die Kämpfe der Asylsuchenden in ihrem Wesen antirassistische Kämpfe sind, kann nicht bestätigt werden. […] Das ist die Sichtweise, die dazu geführt hat, dass antifaschistische und antirassistische Aktivist_innen die Hauptunterstützer_innen der Asylsuchendenbewegung geworden sind. Wir wollen hier fragen, ob die Sicht bezüglich des Ursprungs der Gesetzgebung richtig ist und auch, was die theoretische Grundlage der Verknüpfung zwischen den Kämpfen Asylsuchender und antirassistischer Unterfangen ist. Gesetze bezüglich der Leben Asylsuchender, wie ‘Lagerpflicht’, ‘Residenzpflicht’ und Abschiebung, sind Gesetze, die nur für eine Gruppe von Leuten in der Gesellschaft gelten, und sind in diesem Sinne diskriminierend. Doch hat das Abzielen und Isolieren nur einer Gruppe von Leuten nicht notwendigerweise eine rassistische Grundlage. Der Punkt ist, dass Asylsuchende (Nicht-Staatsbürger_innen) nicht alle als „nicht von hier“ markierten Leute einschließen, sondern diejenigen sind, die der Staat als „Asylbewerber“ stigmatisiert und bezeichnet hat. Ein sorgfältiger Blick in diese Gesetze zeigt, dass sie nicht in ihrer Beschaffenheit mit rassistischer Diskriminierung zusammenhängen.“ (7)
Eine adäquate Antwort wäre wohl etwas mehr als „Antirassismus“ und Critical-Whiteness-Debatten. Es scheint viel mehr darum zu gehen, das große falsche Ganze dieser warenproduzierenden Gesellschaft in Frage zu stellen. Continue reading →
 Бытие не определяет сознание — по крайней мере, не материалистически. Ибо материализм пишется не материей как первопричиной, которой сознание служило бы зеркалом, а загнанным в негативную тотальность капиталистических отношений человеческим родом. Материализм не является теорией социальной среды, детерминизмом; он вообще не делает производных. Он критически описывает. Он занимается, как говорил Маркс, «критикой посредством описания», т.е. объективной саморефлексией вывернутого наизнанку общества в горизонте его ультимативного кризиса как его окончательной правды. Так, материализм является не философией происхождения, а самосознанием негативной диалектики, не Великим Методом, который применяется интеллектуалами к объекту, а критикой, взрывающей овеществлённую имманентность объекта. Материализм не является, тем более в его категорической позиции как коммунизм, органом какого-либо интереса, агентом класса, комиссаром какой-либо программы: поэтому он не годится ни на роль «науки как профессии», ни на роль её последствия – «политики как профессии», т.к. он не может уложить в систему и озолотить в виде теории анти-разумное капиталистического общества. Материализм — это антагонист подобных практик рационализации, этого, как говорит Адорно, «пораженчества разума». Ибо марксизм до-критичен, одна из опций буржуазного Просвещения. Марксизм, к тому же, анти-критичен, стратегия радикально-буржуазной, якобинской интеллектуальности. Там, где материализм марксовой критики политической экономии говорит об идеологии, там интеллектуал постоянно слышит интерпретацию, мнение, манипуляцию: затем, чтобы занять позицию профессионального посредничества между так называемыми «фактическими суждениями» и так называемыми «ценностными суждениям». Continue reading
Бытие не определяет сознание — по крайней мере, не материалистически. Ибо материализм пишется не материей как первопричиной, которой сознание служило бы зеркалом, а загнанным в негативную тотальность капиталистических отношений человеческим родом. Материализм не является теорией социальной среды, детерминизмом; он вообще не делает производных. Он критически описывает. Он занимается, как говорил Маркс, «критикой посредством описания», т.е. объективной саморефлексией вывернутого наизнанку общества в горизонте его ультимативного кризиса как его окончательной правды. Так, материализм является не философией происхождения, а самосознанием негативной диалектики, не Великим Методом, который применяется интеллектуалами к объекту, а критикой, взрывающей овеществлённую имманентность объекта. Материализм не является, тем более в его категорической позиции как коммунизм, органом какого-либо интереса, агентом класса, комиссаром какой-либо программы: поэтому он не годится ни на роль «науки как профессии», ни на роль её последствия – «политики как профессии», т.к. он не может уложить в систему и озолотить в виде теории анти-разумное капиталистического общества. Материализм — это антагонист подобных практик рационализации, этого, как говорит Адорно, «пораженчества разума». Ибо марксизм до-критичен, одна из опций буржуазного Просвещения. Марксизм, к тому же, анти-критичен, стратегия радикально-буржуазной, якобинской интеллектуальности. Там, где материализм марксовой критики политической экономии говорит об идеологии, там интеллектуал постоянно слышит интерпретацию, мнение, манипуляцию: затем, чтобы занять позицию профессионального посредничества между так называемыми «фактическими суждениями» и так называемыми «ценностными суждениям». Continue reading 

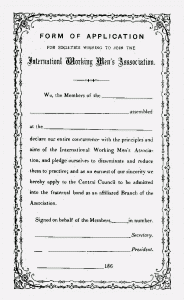
 Мир, в котором мы сегодня живём, никогда не закончится. Ибо мы уже живём после конца света. Катастрофе, которой всё равно все опасаются, больше не надо происходить. То, что всё продолжается, как раньше, после всего, что было, это и есть катастрофа.
Мир, в котором мы сегодня живём, никогда не закончится. Ибо мы уже живём после конца света. Катастрофе, которой всё равно все опасаются, больше не надо происходить. То, что всё продолжается, как раньше, после всего, что было, это и есть катастрофа.