Initiative Sozialistisches Forum
«Ситуация еврея такова, что всё, что он делает, обращается против него».
Жан-Поль Сартр, 1945
«Согласно фашистскому мышлению евреи не имею права ни оставаться там, где они есть, ни иметь возможности создать собственную нацию.
Альтернативной является уничтожение».
Теодор В. Адорно, 1950
«Сегодня больше нет антисемитов, все всего лишь понимают арабов».
Фридрих Дюрренматт, 1976
Сионизм есть ничто иное как последняя буржуазная революция современности. Теодор Герцль, чей труд по философии государства и права под названием «Еврейское государство» сделала эту революцию в 1896 году вообще мыслимой, подобно тому, как «Общественный договор» Жан-Жака Руссо в 1762-м сделал возможной французскую, а Давид Бен Гурион, израильский Ленин, являют собой ничто иное как еврейскую версию великих буржуазных революционеров вроде Максимилиана Робеспьера, Сен-Жюста и Дантона. Однако, революция, тем более буржуазная – это не детский утренник, и ценой провозглашения прав человека были гильотина и революционный террор, и, в конце концов, наполеоновские войны против феодально-абсолютистских сил, отказывавшихся принять принцип Нового времени, «Code civil», т.е. обобществление по принципу сделавшихся субъектами индивидов под надзором капиталистического суверена. Дабы гарантировать телесную неприкосновенность, необходимо было казнить короля. В 1789-м году феодальному обществу пришлось уступить место принципу «egalite, liberte и fraternite», а Карл Маркс, который без труда оклеветал это движение как прогресс в сторону «infanterie, kavallerie и artillerie», в то же время признал, что лишь так история человечества приобрела своё специфическое предназначение — разумность. Лишь революционное насилие придало (человеческому) роду отличное от зоологического предназначение. Тем самым буржуазная революция содержала в себе зерно своего совершенно «иного», коммунизма как свободной ассоциации. И в том заключалась диалектика Просвещения, что буржуазия пыталась саботировать прогресс разума за пределы капиталистического обобщения, чтобы превратить провозглашение прав человека в обычное естественное право, а тем самым в антропологию всеобщей конкуренции. Но в 1789-м году этот принцип был атакой на подчинение человека клерикальным и феодальным властям, т.е. собственно формальным началом истории человеческого рода. А всякая великая революция, заслуживающая своего имени, находит и свою контрреволюцию, свою Вендею. Вендея сионистов называется Палестиной, а аncien regime, блок из попов, крестьян и верных королю аристократов, намеревавшийся преградить якобинцам путь, зовётся сегодня PLO, «Исламский джихад», ХАМАС и Хизболла, а кроме того, чтобы заправить исламофашизм по-европейски, щепотка постмодерна, мультикультурализма и левобуржуазного пацифизма.
Несчастьем сионизма было то, что его революция могла быть только несвоевременной, но кроме того – что она являет собой буржуазную революцию евреев. Не ясно, что для Израиля обладает более разрушительным эффектом. Т.к. революция сионистов произошла в то время, когда Запад уже давно не только отказался от программы Просвещения, но и в ходе всеобщего кризиса капитала 1929-го года и в форме Германии как «чёрной дыры» капиталистического обобществления радикализовался до того, что стилизировал евреев до «антирасы» и непосредственного антипринципа человечества, чтобы затем в бреду сначала дискриминировать их как воплощение «накопительского капитала», затем преследовать, и, в конце концов, убить их. В форме антисемитизма Германия отозвала прокламацию прав человека. Она сделала это ввиду антисемитизма не только как воплощения экономических, но и политических бредовых представлений: ведь антисемитизм стремился не только к экономическому благоденствию народного коллектива, но и к государству целого народа, к национальному самоопределению гомогенного в себе убийственного коллектива, т.е. к идентичности немцев как расы, как злокачественной природы. Эта попытка при помощи объявления евреев врагами не только присвоить немцам загадку капиталистической продуктивности как их изначальной собственности, т.е. одновременно поглотить и переварить причину того, что суверенная монополия на насилие функционирует, что система приказов и повиновения является столь же неоспоримой, сколь спонтанной, что готовность к жертве и, прежде всего, к убийству становится первой, воплощённой природой человека. Это и было смыслом Нюрнбергских законов: всякое условие, которое якобы определяло, что должно считаться еврейским, было одновременно с этим и попыткой сконструировать «немецкое» и воплотить его в суверене. Фашизм нацистов уничтожал евреев, дабы создать народный коллектив, т.е., в конечном итоге: снять буржуазное общество, из экономического краха которого он произошёл, в некоем подобии государства-муравейника. В этом смысле Гитлер был первым джихадистом, а мудрый наблюдатель вроде Уинстона Черчилля мог ответить на вопрос, чем является книга «Моя борьба», что она служит «новым Кораном» для немцев. Continue reading
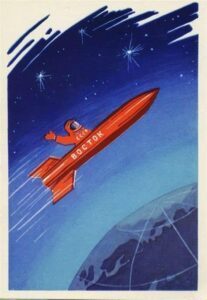



 Абсурдным образом устаревшая форма хозяйствования стабилизировалась в фашистских режимах первой половины 20-го столетия и ужас, который необходим, для её поддержания, многократно увеличился, хотя её бессмысленность открылась взгляду. Одновременно с управленческими полномочиями ещё раз утвердились и удушливый порядок частной сферы, партикуляризм интересов, давно устаревшая форма семьи, право собственности и его отражение в характере. Но с нечистой совестью, с довольно беспомощным осознанием неправды. Всё, что некогда было в буржуазности хорошего и пристойного, независимость, упорство, предусмотрительность, осторожность, развращено до самых своих глубин. Ибо в то время как буржуазная форма существования отчаянно консервируется, экономические её предпосылки исчезли. Приватное полностью превратилось в привативное, чем оно в тайне всегда и было, а к упрямому настаиванию на собственных интересах примешивается ярость от того, что их всё-таки больше уже нельзя соблюсти, что всё могло бы быть иначе и лучше. Буржуа потеряли свою наивность а стали из-за этого злыми и упрямыми. Заботливая рука, всё ещё ухаживающая и заботящаяся о саде, как если бы он уже давно не стал «земельным участком», но в страхе отгоняющая незнакомых и незваных гостей, уже является той же рукой, которая отказывает беженцам в убежище. Как подвергающиеся объективной опасности власть придержащие и их свита полностью обечеловечелись субъективно. Так, класс приходит в себя и делает разрушительный ход мира своим собственным. Буржуа продолжают жить как грозящие бедой призраки.
Абсурдным образом устаревшая форма хозяйствования стабилизировалась в фашистских режимах первой половины 20-го столетия и ужас, который необходим, для её поддержания, многократно увеличился, хотя её бессмысленность открылась взгляду. Одновременно с управленческими полномочиями ещё раз утвердились и удушливый порядок частной сферы, партикуляризм интересов, давно устаревшая форма семьи, право собственности и его отражение в характере. Но с нечистой совестью, с довольно беспомощным осознанием неправды. Всё, что некогда было в буржуазности хорошего и пристойного, независимость, упорство, предусмотрительность, осторожность, развращено до самых своих глубин. Ибо в то время как буржуазная форма существования отчаянно консервируется, экономические её предпосылки исчезли. Приватное полностью превратилось в привативное, чем оно в тайне всегда и было, а к упрямому настаиванию на собственных интересах примешивается ярость от того, что их всё-таки больше уже нельзя соблюсти, что всё могло бы быть иначе и лучше. Буржуа потеряли свою наивность а стали из-за этого злыми и упрямыми. Заботливая рука, всё ещё ухаживающая и заботящаяся о саде, как если бы он уже давно не стал «земельным участком», но в страхе отгоняющая незнакомых и незваных гостей, уже является той же рукой, которая отказывает беженцам в убежище. Как подвергающиеся объективной опасности власть придержащие и их свита полностью обечеловечелись субъективно. Так, класс приходит в себя и делает разрушительный ход мира своим собственным. Буржуа продолжают жить как грозящие бедой призраки.