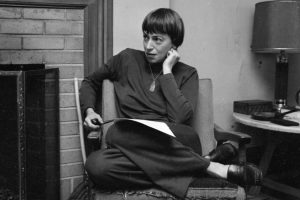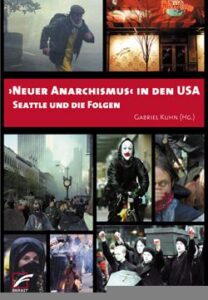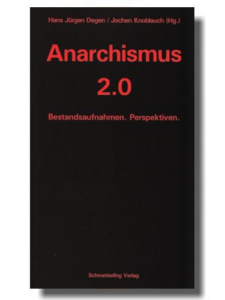Предварительные условия и возможности
Все успешные революции прошлого были партикуляристскими революциями меньшинств, стремившихся утвердить свои специфические интересы над интересами всего общества. Великие буржуазные революции Нового времени предлагали идеологию масштабного политического переустройства, но в действительности они лишь подтверждали социальное господство буржуазии, давая формальное политическое выражение экономическому превосходству капитала. Возвышенные понятия «нации», «свободного гражданина», равенства перед законом скрывали обыденную реальность централизованного государства, атомизированного изолированного человека и господства буржуазных интересов. Несмотря на свои масштабные идеологические заявления, партикуляристские революции заменили господство одного класса другим, одну систему эксплуатации – другой, одну систему труда – другой, а одну систему психологического подавления — новой.
Уникальность нашей эпохи заключается в том, что партикулярная революция теперь уступила место возможности всеобщей революции — полной и тоталистической. Буржуазное общество, если оно не достигло ничего другого, произвело революцию в средствах производства в беспрецедентных в истории масштабах. Эта технологическая революция, кульминацией которой стала кибернетика, создала объективную, количественную основу для мира без классового господства, эксплуатации, труда и материальной нужды. Теперь существуют средства для развития совершенного человека, тотального человека, освобождённого от чувства вины и авторитарных методов воспитания и отданного на волю желания и чувственного постижения чудесного. Теперь можно представить будущий опыт человека в терминах целостного процесса, в котором раздвоения мысли и деятельности, разума и чувственности, дисциплины и спонтанности, индивидуальности и сообщества, человека и природы, города и страны, образования и жизни, работы и игры разрешаются, становятся гармоничными и органично скрепляются в качественно новом царстве свободы. Как партикулярная революция породила партикулярное, раздвоенное общество, так и всеобщая революция может породить органически единое, многогранное сообщество. Великая рана, открытая собственническим обществом в форме «социального вопроса», теперь может быть исцелена.
То, что свобода должна пониматься в человеческих, а не в животных терминах — в терминах жизни, а не выживания, – достаточно ясно. Люди не избавляются от уз рабства и не становятся полноценными людьми, лишь избавившись от социального господства и обретя свободу в её абстрактной форме. Они должны быть свободны и конкретно: свободны от материальной нужды, от труда, от бремени посвящать большую часть своего времени — более того, большую часть своей жизни — борьбе с необходимостью. Увидеть эти материальные предпосылки человеческой свободы, подчеркнуть, что свобода предполагает наличие свободного времени и материальных предпосылок для отмены свободного времени как социальной привилегии, – таков великий вклад Карла Маркса в современную революционную теорию.
В то же время не следует путать предпосылки свободы с условиями свободы. Возможность освобождения не означает его реальность. Наряду с позитивными аспектами технический прогресс имеет и явно негативную, социально регрессивную сторону. Если верно, что технический прогресс расширяет историческую возможность свободы, то верно и то, что буржуазный контроль над технологией укрепляет сложившуюся организацию общества и повседневной жизни. Технологии и ресурсы изобилия дают капитализму средства для ассимиляции широких слоёв общества в установленную систему иерархии и власти. Они обеспечивают систему оружием, средствами обнаружения и средствами пропаганды как угрозы, так и реальности массовых репрессий. По своей централизованной природе ресурсы изобилия усиливают монополистические, централистские и бюрократические тенденции в политическом аппарате. Короче говоря, они предоставляют государству исторически беспрецедентные средства для манипулирования и мобилизации всей сферы жизни — и для увековечивания иерархии, эксплуатации и несвободы.
Следует, однако, подчеркнуть, что такое манипулирование и использование окружающей среды крайне проблематичны и чреваты кризисами. Попытка буржуазного общества контролировать и эксплуатировать окружающую среду, как природную, так и социальную, далеко не всегда приводит к умиротворению (вряд ли здесь можно говорить о гармонизации), но имеет разрушительные последствия. О загрязнении атмосферы и водных путей, об уничтожении древесного покрова и почвы, о токсичных веществах в продуктах питания и водах написаны огромные тома. Ещё более угрожающими по своим конечным результатам являются загрязнение и разрушение самой экологии, необходимой для существования такого сложного организма, как человек. Концентрация радиоактивных отходов в живых организмах представляет угрозу для здоровья и генетического потенциала почти всех видов. Всемирное загрязнение пестицидами, подавляющими выработку кислорода в планктоне, или почти токсичный уровень свинца в бензиновых выхлопах – примеры постоянного загрязнения, угрожающего биологической целостности всех развитых форм жизни, включая человека.
Не менее тревожным является тот факт, что мы должны кардинально пересмотреть наши традиционные представления о том, что является загрязнителем окружающей среды. Ещё несколько десятилетий назад было бы абсурдно называть углекислый газ и тепло загрязнителями в привычном понимании этого термина. Однако оба эти вещества могут оказаться в числе наиболее серьёзных источников будущего экологического дисбаланса и представлять серьёзную угрозу для жизнеспособности планеты. В результате промышленной и бытовой деятельности количество углекислого газа в атмосфере за последние сто лет увеличилось примерно на двадцать пять процентов, а к концу века может удвоиться. В средствах массовой информации широко обсуждается знаменитый «парниковый эффект», который, как ожидается, вызовет увеличение количества этого газа; предполагается, что в конечном итоге газ будет препятствовать рассеиванию мирового тепла в пространстве, вызывая повышение общей температуры, что приведёт к таянию полярных ледяных шапок и затоплению обширных прибрежных районов. Тепловое загрязнение — результат сброса тёплой воды атомными и обычными электростанциями — оказывает катастрофическое воздействие на экологию озер, рек и эстуариев. Повышение температуры воды не только наносит ущерб физиологической и репродуктивной деятельности рыб, но и способствует мощному цветению водорослей, которые стали такой грозной проблемой для водных путей. Continue reading