Weltcoup
[Мы публикуем безусловно заслуживающий внимания текст, хотя не со всеми предпосылками и выводами мы согласны. В свете актуальных событий в Сирии он, может быть, не совсем актуален. Просвечивает-таки последняя надежда на разум в истории и его верного агента – пролетариат, которая, на наш взгляд, погибла, самое позднее, где-то в системе лагерей Аушвица и Гулага; педагог Гегель и тому подобный марксологический пафос, да и ислам заслуживает более дифференцированного рассмотрения, хотя основной темой статьи и не является. Нет, мы не понимаем, почему после Аушвица можно рассуждать о пролетариате и революции, как будто ничего не произошло. Авторы настойчиво напоминают нам об окончании Первой мировой, мы напоминаем об окончании Второй мировой. Спор, возможно, эзотерический, но и революционный пролетариат — метафизика ещё та. – liberadio]
I.
Наш мир, буржуазный мир, является одной большой «лужей крови, грязи и идиотизма», как однажды провозгласили сюрреалисты. С тех пор ничего не изменилось. Последний прорыв варварства в форме наступления божьих воинов «Исламского государства» (ИГ) снова показывает нам это со всей отчётливостью. Их операции увенчались основанием халифата — маяк и знак для всех исламистов, что джихад окупается и может быть успешным. Мы не хотим тут подробней останавливаться на исламе и его фашистском обострении, исламизме, и отсылаем читателей и читательниц к замечательным работам Хартмута Крауса, исходя от которых это явление должно исследоваться дальше, дабы разработать теоретические предпосылки его уничтожения. (1) Нас больше интересуют позиция Запада и реакция коммунистической левой на последние события. Непосредственной причиной для написания этого текста послужила сдача курдского города Кобани мясникам ИГ благодаря невмешательству Запада. Мы опасаемся, что исламистские бойцы устроят бойню выживших курдов, если город достанется им.
Основную вину за то, что такая фашистская формация как ИГ вообще могла утвердиться и расширить свою власть, несут, на наш взгляд, Запад и, в особенности, США. Но в совершенно не в том смысле, в котором это утверждают анти-американисты, очерняющие как раз самые прогрессивные интервенции США. Напомним ещё раз: летом 2012-го года Обама грозил бомбардировками, если армия Асада применит боевые газы против повстанцев, что затем и случилось. После того, как была перейдена эта красная линия, США своих угроз не выполнили: вероятно, потому что прогнулись под Россию — важнейшего, помимо Китая, защитника режима Асада. Запад предал повстанцев и освободил тем самым место реакционной, принадлежащей «суннитскому блоку» и враждебной Ирану арабской буржуазии, которая занялась поддержкой исламистов в сирийской гражданской войне. Это было началом кровавого восхождения ИГ.
Полу-серьёзные действия созданной ныне некоторыми западными государствами и реакционными арабскими режимами коалиции против ИГ пользуются далеко не полным военным потенциалом этим сил. Воздушные удары до сих пор носили скорее «стратегический», чем «тактический» характер, как было недавно озвучено. Это, наверное, должно означать, что они не подразумевались как прямая и эффективная поддержка актуально сражающихся против ИГ сил. И как раз Демократический Союз Сирии (сирийское крыло Рабочей Партии Курдистана), принимающий на себя всю мощь исламистских ударов, не получает вообще никакой поддержки. Самая прогрессивная, секуляристская и наименее патриархальная из всех сражающихся с ИГ групп отдана, тем самым, на растерзание.
И вообще, никто никуда не торопится. Мартин Демпси, главнокомандующий штаба армии США, заявил, что армия готовится к затяжной, длящейся несколько лет войне (2), в которой должны участвовать прогрессивные части антиасадовской оппозиции, для чего будут нужны от двенадцати до пятнадцати тысяч солдат. Эти прогрессивные оппозиционеры, по большей части, уже мертвы, преданы Западом и перемолоты армией Асада и исламистами. Так как планируемое США войско против ИГ должно обучаться в Саудовской Аравии, следует, скорее, опасаться, что от этого выиграют какие-нибудь «умеренные» исламисты, как это и происходило до сих пор.
И если планируется долговременная коалиция против ИГ, можно рассчитывать и на то, что это будет, выражаясь осторожно, шатким предприятием с неопределённым исходом. Кто собирается действовать долгосрочно, тот должен быть в состоянии мыслить стратегически; а это — способность, которой сегодня у буржуазии уже практически нет, как метко подметил Ги Дебор в своих «Комментариях к Обществу спектакля». (4) Мы указываем также на замечание Дьёрдя Лукача в связи с его проектом онтологии, что неопозитивизм является направляющей философской идеологией западной политики. (5) Вместо того, чтобы скомбинировать отдельные бои в соответствии с общей целью войны в особенное ведение боевых действий, отдельные бои планируются лишь тактически, без оглядки на их взаимосвязь. (6) Успех измеряется прагматически исходом отдельных сражений, что, к примеру, заставляет забыть, что бывают и пирровы победы, т.е. сражения, непосредственно заканчивающиеся победой, относительно же их положения в общей взаимосвязанности войны оказывающиеся ошибками и поражениями. Рациональное планирование и организация, ограниченная уровнем отдельного боя, оборачиваются иррациональностью на уровне тотальности войны. К этому добавляется ещё и обоснованное капиталистическим разделением труда твердолобое фиксирование на сфере военных действий при игнорировании всех прочих сфер общества.
Эта ограниченность буржуазной политики и ведения войны подтвердилась на примере военного вторжения США в Ирак в 2003-м году, которые забуксовали там в кратчайшие сроки. Сначала большая часть иракского населения, радовавшаяся свержению Саддама, поддерживала американские войска. Но т.к. оные не озаботились мыслями о том, как они будут организовывать снабжение населения продуктами питания и энергией в первые дни после вторжения, настроения населения довольно быстро переменились, что создало благодатную почву для исламистской пропаганды. Кроме того, значительной части бюрократического аппарата бааcистского режима было позволено перенять новый государственный аппарат, благодаря чему демократизация общества снизу так и не смогла начаться.
II.
Из неспособности и чёрствости буржуазии, полагающейся на элементарное лавирование и манипулирование в отдельных сражениях на основании принципов, совершенно оторванных от реальности, мы приходим в этом случае к выводу о её историческом устаревании и конце её исторически прогрессивной роли. Она может только приносить вред. Единственный класс, от которого мы ещё можем ожидать чего-то существенного, это пролетариат, когда он начнёт писать свою собственную революционную историю. Как производственный субъект общественного богатства он является живой субстанцией капиталистической формы общества, он создаёт свой продукт в форме капитала, как чужую собственность и враждебную власть, противостоящую ему. Он действует революционно, когда он прекращает подчиняться этой власти и начинает сам определять общественное производство, в ходе чего производители и производительницы теряют свою классовую форму пролетаризированных.
Утрата иллюзий и разочарование в роли буржуазии должны распространиться на всё буржуазное общество, ибо оная служит лишь персонификацией условий этого общества. Эта капиталистическая общественная формация рациональна лишь поверхностно; на самом же деле ей не достаёт рациональности или — её общественная рациональность проявляется лишь вместе с её оборотной стороной, её общественной иррациональностью. (7) Несмотря на невероятный цивилизационный прогресс и рациональную организацию отдельных общественных сегментов, она основывается на хаотичном, псевдо-естественном и слепом способе производства, на частной классовой собственности на общественные средства производства и на «атомичном отношении людей в их общественном производственном процессе» (Карл Маркс, Капитал, т.1, гл. 2). По причине неконтролируемого сознательно всеми производителями и производительницами общественного производства, условия производства принимают овеществлённую форму и проявляются в форме товаров и денег. Качества их общественной формы, которыми они обладают лишь в определённых условиях, кажутся непосредственно естественными качествами вещей, и идейным отражением этого «вещественного бытия» (там же), либо «фетишизмом, прилипающим к продуктам труда, как только они производятся как товар» (там же) мы называем идеологией, фальшивым сознанием или повседневной религией. Кто стремится к снятию и упразднению этих иррациональных форм мышления, например, таких представлений как религия, должен_должна преодолеть так же и их общественное основание, отчужденный, капиталистический способ производства: «Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с природой. Строй общественного жизненного процесса, т. е. материального процесса производства, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем.» (там же)
Антифашизм, не выходящий за горизонт существующей общественной формации, всегда является лишь беспомощным (а его действия — сизифовым трудом (8)), непоследовательным и лживым. Надежды, возлагаемые на буржуазию в борьбе с фашизмом, ограничены моральной точкой зрения, т. к. не замечают общественных оснований и движущих сил морали. Ещё Маркс критиковал это представление об оторванной от реальности, абстрактной морали: «Идея позорилась всегда, когда её отделяли от ‘интереса’». (Карл Маркс / Фридрих Энгельс, Священное семейство, или Критика критической критики) Не стоит ожидать от буржуазии, что она только по причине своей доброй воли станет действовать вопреки своим интересам и, тем самым, упразднит условия своего собственного существования. Но и наоборот: истинные и надёжные противники фашизма работают над его уничтожением не только по абстрактно-моральным, «альтруистическим» причинам, но имеют в этом свой материальный, «эгоистичный» и общий жизненный интерес — пролетаризированные могут ожидать от власти фашистов лишь наглое угнетение и усиленную эксплуатацию вкупе с самопожертвованием, пусть даже в одеждах народного или религиозного единства. (10)
Кто наивно ожидает от буржуазной цивилизации, что она по определению является антифашистской, рассматривает фашизм по отношению к существующему обществу как аномалию и неверно понимает его как сущностную противоположность этого общества. На самом деле, развитие буржуазного общества само является противоречивым, одновременно и цивилизующим, освобождающим и ввергающим в варварство, регрессивным. Маркс описывает эту диалектику современного и архаичного, переплетения цивилизации с варварством при помощи такого шокирующего образа: человеческий прогресс всё ещё походит на страшное языческое божество, желающее пить нектар из черепов убитых. (К. Маркс, Будущие результаты британского владычества в Индии) Всякий прогресс в условиях классового общества и порядка эксплуатации всегда остаётся заключённым в рамки «предыстории человеческого общества» (К. Маркс, К критике политической экономии), в этом «континууме истории» (Вальтер Беньямин, О понятии истории), постоянно возвращающемся в виде «судьбы» и «рока». Чудовищное количество людей, страдающих от нищеты актуальных условий жизни (лишения, бессилие и угнетение) оказываются, таким образом, в, своего рода, постоянном историческом «чрезвычайном положении». Для осознавшего этот факт антифашизма фашизм являет собой не просто отклонение от «исторической нормы», но качественным обострением варварской стороны буржуазного общества, разрыв с его цивилизованной формой, и найти на это революционный ответ означало бы «создание истинного чрезвычайного положения». Вальтер Беньямин связывает всё это в восьмом тезисе «О понятии истории»: «Традиция угнетенных учит нас, что переживаемое нами «чрезвычайное положение» — не исключение, а правило. Нам необходимо выработать такое понятие истории, которое этому отвечает. Тогда нам станет достаточно ясно, что наша задача — создание действительно чрезвычайного положения; тем самым укрепится и наша позиция в борьбе с фашизмом. Его шанс не в последнюю очередь заключается в том, чтобы его противники отнеслись к нему во имя прогресса как к исторической норме. — Изумление по поводу того, что вещи, которые мы переживаем, «еще» возможны в двадцатом веке, не является философским. Оно не служит началом познания, разве что познания того, что представление об истории, от которого оно происходит, никуда не годится.»
III.
Исламская контрреволюция не является внешним по отношению к Западу феноменом, ибо оба покоятся на одном и том же основании: классовой власти и присвоении чужого труда. Кроме того, исламизм уже успел стать проблемой в западных обществах. Неверный ответ на наивные реально-политические надежды замыкает противоречивую взаимосвязь буржуазной цивилизации и современного варварства и превращает её в абстрактную идентичность, ночь, в которой все кошки чёрные, как отзывался Гегель о подобном мышлении. (12) Такое позиционирование хочет представлять чистые революционные принципы с некоей архимедовой точки, не проникая на территорию врага и не будучи вынужденным в борьбе играть по действующим там правилам. De facto, такая позиция — метафизическая, которую могло бы занять только находящееся вне мира божественное существо, которого в реальности не существует: в политическом плане она ведёт к аттантизму и индифферентности. (13)
Жалостливой позиции, т.е. позиции «возвышенной души», Маркс в отношении общественных конфликтов и столкновений никогда не принимал (14); вспомним хотя бы о его деятельности в Международной ассоциации трудящихся. Ещё в «Манифесте коммунистической партии» он высказывался о борьбе буржуазного класса: «Вообще столкновения внутри старого общества во многих отношениях способствуют процессу развития пролетариата. Буржуазия ведет непрерывную борьбу: сначала против аристократии, позднее против тех частей самой же буржуазии, интересы которых приходят в противоречие с прогрессом промышленности, и постоянно – против буржуазии всех зарубежных стран. Во всех этих битвах она вынуждена обращаться к пролетариату, призывать его на помощь и вовлекать его таким образом в политическое движение. Она, следовательно, сама передает пролетариату элементы своего собственного образования, т. е. оружие против самой себя». Т.к. буржуазия вынуждена вовлекать пролетариат в свои конфликты и вооружать его, чтобы он боролся как представитель своих частных интересов, она по возможности создаёт своего собственного могильщика. Эта возможность переворота реализуется, когда пролетариат научится использовать данное ему буржуазией оружие, перефукционировать его и применить в своих интересах. Он не возникнет вдруг как «третья сила», парящая над конфликтами своего времени, на подмостках истории, но сможет развиться только из реальных и современных противоречий и столкновений в субъект своей собственной истории. Вспомним окончание Первой мировой войны, произошедшее благодаря не героическим пацифистам и пацифисткам, а революционным выступлениям мобилизованных на войну масс, обративших своё оружие против старых господ. Вместо того, чтобы положиться на «внешние» силы, будь то буржуазные государственные аппараты или революционный пролетариат как призрак — единственный путь к революции ведёт через самообразование пролетариата в «класс сознания» (Ги Дебор, Общество спектакля). «Для достижения окончательной победы выведенных в ‘Манифесте’ принципов Маркс полагался исключительно на интеллектуальное развитие рабочего класса, которое должно было неизбежно развиться из совместных действий и дискуссий» (Ф. Энгельс, Предисловие к четвёртому немецкому изданию (1890) «Манифеста коммунистической партии»). К этому образованию класса пролетариат подвигается объективно, со всё большей неизбежностью, под угрозой погибели, чтобы наконец-то вырваться из «истории антагонизмов, кризисов, конфликтов и катастроф» (К. Маркс, Наброски к ответу на письмо В.И. Засулич). Оно начинается с элементарной классовой борьбы, которая естественным образом возникает из противоречий буржуазного общества, и в тенденции имеет своей целью демократическое самоуправление производителей и производительниц, революционную диктатуру пролетариата – «политическую форму, при которой происходит экономическое освобождение труда» (К. Маркс, Гражданская война во Франции). Между этой элементарной, экономической и развитой, политически-революционной формой классовой борьбы находится процесс развития с различными переходными формами (15), к которым, среди прочего, относятся различные виды политической классовой борьбы. В связи со своей революционной реальной политикой (16), к которой пролетариат будет принуждён внешней необходимостью, ему придётся использовать политическое пространство для маневра, чтобы защищать и утверждать свои постоянно недостаточные условия борьбы и цивилизационные минимальные стандарты, без которых ему было бы не вздохнуть и он не смог бы создать свою собственную «партию». Это включает и участие в «цивилизирующей миссии капитала» (против всех отсталых общественных форм), за которые нужно не упасть, а, наоборот, преодолеть их, чтобы достичь коммунистической цивилизации. Цивилизации, которая превзойдёт свою буржуазную предшественницу по объёму общественного богатства и свободе индивидов.
Коммунизм – либо модернистский, либо его нет. Главный политический враг, поэтому, был и остаётся — регрессивный антикапитализм, проявляющий себя бойцом арьергарда до-буржуазного классового общества и выступающий за возвращение к формам общности на этнической или религиозной основе, что ведёт к самоубийственной попытке повернуть колесо истории вспять. Против таких диких проектов вроде национал-социализма или исламского фашизма, создающих свои планы либо на тысячу лет или уж сразу на всю вечность, нельзя оставлять ничего не предпринятым. Они — заклятые враги как буржуазного, так и коммунистического модерна, цивилизации вообще. Там, где они до сих пор приходили к власти, они вызывали чудовищные катастрофы и уничтожали при помощи террористических средств практически всё, что существовало из коммунистического движения.
Вернёмся в настоящее: вместо того, чтобы напрасно ждать, когда власть имущие начнут вести борьбу против ИГ рационально и последовательно, существующий сегодня контингент класса сознания должен своевременно создать свою коалицию против современного варварства, вынудить, насколько это возможно, свои правительства к этой борьбе, там, где оные на это не способны, принять вызов самому. В этой связи вспоминается замечание Маркса, «что working class имеет its own foreign policy, которую совершенно не заботит, что middle class (наименование буржуазии в Англии) считает opportune» (письмо Маркса Энгельсу). А также заключительные слова «Приветствия к Международной ассоциации трудящихся»: «Когда эмансипация рабочих классов требует совместных действий различных наций, как достичь той великой цели при помощи внешней политики, преследующей пошлые цели, играющей на национальных предрассудках и разбазаривающей кровь народа и его достояния в пиратских войнах? Не мудрость правящих классов, а героическое сопротивление английского рабочего класса их преступному упрямству уберегло Запад Европы от трансатлантического плавания ради увековечивания и пропаганды рабства. Бесстыжие аплодисменты, показные симпатии или идиотское равнодушие, с которыми высшие классы Европы смотрели на резню героических поляков и на захват кавказского горного хребта Россией; чудовищные и принимаемые без сопротивления деяния этой варварской державы, чья голова находится в Санкт-Петербурге, а чьи руки в – каждом кабинете Европы, показали рабочим классам их обязанность проникнуть в тайны международной политики, следить за дипломатическими действиями своих правительств и, если нужно, противодействовать им; если их нельзя предупредить, объединиться в одновременном обвинении и сделать действенными простейшие законы морали и права, которые должны были бы регулировать отношения между частными лицами, как высшие законы в отношениях между народами. Борьба за такую внешнюю политику является частью борьбы за освобождение рабочего класса».
Как конкретно должна выглядеть эта внешняя политика против исламского фашизма, этой варварской силы — которая как раз сейчас устраивает резню курдских бойцов в Сирии под взглядами высших классов Запада, это мы пока оставим открытым. В этом тексте должны были быть сначала абстрактно обрисованы исходные позиции революционной реальной политики, как они были разработаны «партией Маркса» для пролетариата, но, странным образом, до сих пор не были замечены. Как могут выглядеть дальнейшие шаги, должно обсуждаться широкими пролетарскими массами, а не находиться в руках отдельных underdogs — в которых им никогда не суждено стать реальностью.
11.10.14
Перевод с немецкого.
(1) См.: http://www.hintergrund-verlag.de/texte-islam.html
В особенности мы обращаем ваше внимание на актуальный текст «Text Islam in „Reinkultur“. Zur Antriebs- und Legitimationsgrundlage des „Islamischen Staates“ und seiner antizivilisatorischen Schreckensherrschaft»: http://www.hintergrund-verlag.de/texte-islam-hartmut-krauss-islam-in-reinkultur-zur-antriebs-und-legitimationsgrundlage-des-islamischen-staates.html
Мы указываем также на несистематизированные заметки Маркса и Энгельса (в письмах) и на труд Карла Августа Виттфогеля «Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power», 1957. См. кроме того главу «Магометанство» в Лекциях по философии истории» Г.В.Ф. Гегеля. Гегель уже тогда определил фанатизм и терроризм как качества ислама: «У магометан господствовала абстракция: их целью было торжество абстрактного культа, и они стремились к этому с величайшим воодушевлением. Это воодушевление являлось фанатизмом, т.е. воодушевлением, вызванным абстрактным, абстрактною мыслью, которая относится отрицательно к существующему. Фанатизм существен лишь в том отношении, что он опустошает, разрушает конкретное; но магометанский фанатизм был в то же время способен на все возвышенное, и эта возвышенность свободна от всяких мелочных интересов и соединена со всеми добродетелями, свойственными великодушию и мужеству. Здесь принципом было la religion et la terreur, подобно тому как у Робеспьера la liberte et la terreur». (http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000388/st013.shtml)
Маркс подчёркивает нетерпимость и враждебность ислама по отношению к «неверным»: «Коран и основанное на нем мусульманское законодательство сводят географию и этнографию различных народов к простой и удобной формуле деления их на две страны и две нации: правоверных и неверных. Неверный — это «харби», враг. Ислам ставит неверных вне закона и создает состояние непрерывной вражды между мусульманами и неверными. В этом смысле пиратские корабли берберских государств были священным флотом ислама.» (К. Маркс, Объявление войны. К истории возникновения восточного вопроса, http://lugovoy-k.narod.ru/marx/10/24.htm)
(2) Ещё один источник в американской армии: «Начальник штаба Рей Одиерно говорит о продолжительности до 20 лет». http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58966
(3) Классическое определение тактики и стратегии Клаузевицем: «То есть, согласно нашему разделению тактика — это учение об использовании войск в бою, а стратегия — учение об использовании сражений в целях войны». (Карл фон Клаузевиц, О войне)
(4) «…государство, в чью бюрократию надолго закрадётся значительный дефицит исторического знания, больше не может управляться с точки зрения стратегии». (Ги Дебор, Комментарии к обществу спектакля, §VII)
(5) «Всякий знает, что за последние десятилетия в радикальном дальнейшем развитии гносеологических тенденций, неопозитивизм с его принципиальным отрицанием любой онтологической постановки вопроса как ненаучного, царствовал безгранично. Причём, не только в, собственно, философской жизни, но и в мире практики. Если проанализировать теоретические мотивы политического, военного и экономического сегодняшнего руководства серьёзно, то станет ясно, что они — сознательно или нет — определяются неопозитивистскими методами мышления. На этом основано их практически неограниченное всемогущество; это приведёт, если однажды конфронтация с реальностью приведёт открытому кризису, в политически-экономической жизни вплоть до философии в самом широком смысле к великим переменам». (Georg Lukács, Die ontologischen Grundlagen [1968]. In: Frank Benseler (Hg.), Revolutionäres Denken – Georg Lukács. Eine Einführung in Leben und Werk, Darmstadt 1984, S. 266.)
(6) В полном соответствии с «противоречием между организацией производства в отдельной фабрике и анархией производства во всём обществе» (Ф. Энегльс, Развитие социализма от утопии к науке) при капиталистическом способе производства.
(7) «Однако Ratio капиталистической экономики не стал пока еще разумом как таковым, это [пока еще] разум замутненный. В определенный момент он бросает в беде истину, в судьбе которой сам принимал участие. Он не учитывает человека. Производственный процесс никогда не регулируется с оглядкой на человека, его не принимают в расчет ни экономическая, ни социальная организация — нигде человек не оказывается основанием системы. Человек как основание: не в том ли корень проблем, что капиталистическое мышление должно культивировать человека как исторически возникшую форму, оставлять его личность неприкосновенной и удовлетворять потребности человеческой природы? Сторонники такого подхода обвиняют капиталистический рационализм в насилии над людьми и прозревают явление новой общности, которая лучше капиталистического порядка сможет сохранит человеческое. Не говоря уже о тормозящем влиянии такого поворота назад, можно утверждать, что эти аргументы бьют мимо цели, мимо коренного недостатка капитализма. Он не слишком рационален, он недостаточно рационален. Свойственное ему мышление внутренне сопротивляется окончательной победе разума, берущего человека за точку отсчета.» (Зигфрид Кракауэр, Орнамент массы, http://magazines.russ.ru/nlo/2008/92/k6.html)
(8) По аналогии с мифическим образом напрасного труда, никогда не добивающегося своей цели и кружащегося в подобии вечного невроза повторений, буржуазный антифашизм обречён постоянно воспроизводить общественные предпосылки фашизма, хотя он и может время от времени одерживать над ним победу.
(9) Напомним об объединениях буржуазии с фашизмом против пролетарских революций, в первую очередь после Первой мировой войны в Германии и Италии.
(10) То, что в истории значительные части пролетариата идентифицировали себя с фашистским движением и становились его восторженными подручными, означает только, что они действовали вопреки своим собственным интересам. Но этим ещё не объяснено своеобразное притяжение фашизма, которую он оказывал на деклассированные части общества. Оно заключается, по нашему мнению, в характере антисемитизма, в убийственном основании (наци-)фашизма как «конформистского восстания» (Макс Хоркхаймер), т.е. в своеобразном заключении компромисса между потребностью в восстании против правителей и всё ещё существующим им подчинением. «Люди переживали конфликт между склонностью к бунту и тем уважением к власти, в котором их воспитали. Антисемитизм дал им возможность одновременно удовлетворить обе эти противоречащие друг другу потребности. Они могли предаться как своей склонности к восстанию в насильственных действиях по отношению к беззащитным людям, так и своей склонности к уважительному подчинению в ответ на приказы властей. (…) Неспокойная совесть масс не давала им покоя, когда они только отваживались помыслить о восстании против власти. Поэтому они были благодарны, когда могли выместить свою ярость на противнике, не решавшемся защищаться, не причиняя неудобств своим хозяевам и не вызывая на себя их гнев». (Otto Fenichel, Elemente einer psychoanalytischen Theorie des Antisemitismus. in: Ernst Simmel (Hg.), Antisemitismus, Frankfurt/M. 1993,S. 38ff.)
(11) См. также замечание Энгельса: «Всякий прогресс цивилизации одновременно является новым развитием неравенства. Все учреждения, которое создаёт возникшее вместе с прогрессом общество, обращаются в противоположность своих изначальных целей» (Ф. Энгельс, Анти-Дюринг) Маркс констатирует тот же факт как разрыв между объективным развитием общественных производственных сил и созданием богатства с одной стороны и развитием массы индивидов, с другой, но подмечает и тенденцию к снятию этого разрыва: «То, что это развитие способностей человеческого рода, хотя оно сначала и возникает за счёт большинства человеческих индивидов и целых классов людей, в конечном итоге разрывает этот антагонизм и совпадает с развитием отдельного индивида, т.е. что высшее развитие индивидуальности приобретается только в историческом процессе, в котором индивиды приносятся в жертву, не понимается, несмотря на всю бесплодность столь пафосных рассуждений, т.к. преимущества рода как в человеческом царстве, так и в царстве животных и растений всегда распространяются за счёт преимуществ индивидов, ибо эти родовые преимущества совпадают с преимуществами отдельных индивидов, которые одновременно представляют и силу этих избранных». (К. Маркс, Теории о прибавочной стоимости II)
(12) «Рассматривать некое бытие, как оно есть в Абсолютном, есть ни в что иное, как высказывание, что о нём Сейчас говорится как о Чём-то: в Абсолютном «я» = «я», однако, такого не бывает, в нём всё едино. То знание, что в Абсолютном всё едино, противопоставить различающему и исполненному или ищущему и требующему исполнения познанию, или выдавать его Абсолютное за ночь, в которой, как принято говорить, все кошки чёрные, есть наивность пустоты познания» (Г.В.Ф. Гегель, Феноменология духа, т. 3)
(13) «Одним словом, рабочие должны скрестить руки на груди и не тратить своего времени на участие в политическом и экономическом движении. Такого рода деятельность может дать им только непосредственные результаты. Как истинно верующие, они должны восклицать, презирая свои повседневные нужды: «Пусть класс наш будет распят, пусть погибнет наше племя, но вечные принципы пусть останутся незапятнанными!» Как благочестивые христиане, они должны верить словам попов, отказываться от всех земных благ и думать только о том, чтобы заслужить рай. — Подставьте на место рая социальную ликвидацию, которая в один прекрасный день совершится неведомо где, неведомо как, неведомо кем, — и обнаружится тот же обман. В ожидании этой пресловутой социальной ликвидации рабочий класс должен вести себя прилично, как стадо сытых овец; оставить в покое правительство, бояться полиции, уважать законы, безропотно поставлять пушечное мясо. В повседневной практической жизни рабочие должны быть покорнейшими слугами государства, но в сердце своем они должны энергично протестовать против его существования и доказывать свое глубокое теоретическое презрение к нему посредством покупки и чтения литературных трактатов об уничтожении государства; капиталистическому строю они ни в коем случае не должны оказывать иного сопротивления, кроме декламации о будущем обществе, в котором этот ненавистный строй перестанет существовать!» (К. Марк, Политический индефферентизм, http://www.k2x2.info/filosofija/sobranie_sochinenii_tom_18/p53.php)
(14) «Так, ничто нам не мешает, увязать нашу критику с критикой политики, с участием в политике, т.е. с реальной борьбой и отождествлять её с ней. В таком случае мы не подходим к миру по-доктринерски с новым принципом: вот Истина, падай ниц! Мы развиваем для мира новые принципы из его принципов. Мы не говорим: прекращай бороться, всё это глупости; мы хотим крикнуть тебе истинный лозунг борьбы. Мы только показываем ему, почему он, собственно, борется, а сознание — это то, что ему придётся себе присвоить, даже если ему не хочется». (К. Маркс, Письма из немецко-французского ежегодника)
(15) Исключить момент последовательности и опосредованной идентичности в этом процессе в пользу чистой непоследовательности может не только левый радикализм, но и социал-демократия: «Это распадение диалектическо-практического единства на неорганичную рядоположенность эмпиризма и утопизма, прилипчивости к «фактам» (в их неустранимой непосредственности) и чуждого современности и истории, пустого утопизма во все большей мере демонстрируется развитием социал-демократии. (…) пасность, которая нависает над пролетариатом со времени его выхода на историческую арену, а именно, что он застрянет в – общей у него с буржуазией – непосредственности своего существования, вместе с социал-демократией приобрела политическую организационную форму, которая искусственно элиминирует уже завоеванные в муках опосредствования, дабы низвести пролетариат к его непосредственному наличному бытию, где он является лишь элементом капиталистического общества, а не одновременно с этим – мотором его саморазрушения и уничтожения.» (Д. Лукач, История и классовое сознание, http://www.marxists.org/russkij/lukacs/1923/history_class/06.htm)
(16) См.: Biene Baumeister Zwi Negator: Kritik der Politik und revolutionäre Realpolitik. Fetischistische Verhältnisse sind Schweine – das Unglück muss überall zurückgeschlagen werden! in: Phase 2: 28/2008. А также: Роза Люксембург, «Карл Маркс»; и главу «Революционная реальная политика» у Дьёрдя Лукача, в «Ленин, Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей»
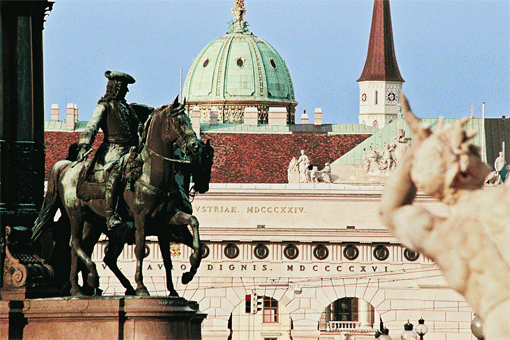 Жил да был один человек, он поджигал дома, один за другим. Он был городским судьёй. Поджигателей тут же находили. Это были, как утверждалось, жители подожжённых зданий. Они представали перед судом. Они собирались, как говорили, сжечь город дотла. Так как им отрубали головы, на обвинение ответить они не могли, как не могли и заплатить судебный налог. Судья собирал этот налог тем, что присваивал себе земельные участки, на которых стояли сгоревшие дома. Вскоре ему принадлежал весь город.
Жил да был один человек, он поджигал дома, один за другим. Он был городским судьёй. Поджигателей тут же находили. Это были, как утверждалось, жители подожжённых зданий. Они представали перед судом. Они собирались, как говорили, сжечь город дотла. Так как им отрубали головы, на обвинение ответить они не могли, как не могли и заплатить судебный налог. Судья собирал этот налог тем, что присваивал себе земельные участки, на которых стояли сгоревшие дома. Вскоре ему принадлежал весь город.
 Сексуализированные нападения на женщин во время демонстраций, приуроченных ко второй годовщине революции в Египте, не служат простым выражением патриархального, презирающего женщин общества. Вместе с нападением на сексуальную независимость женщин преступники покусились на суть революции. Ибо два года назад речь шла не только о свержении диктатора и о демократических выборах в парламент и правительство. В сущности, речь шла о борьбе против патриархальных структур арабского общества. Хосни Мубарак должен был быть свергнут как политический отец. Но точно так же гнев революционеров был направлен и против множества маленьких Мубараков и, в конечном итоге, против позиции отца в семье. Женщины, сущностно участвовавшие в революции, даже если их было и меньше, чем мужчин, воплощали собой этот протест. То, что они вообще существуют, что оставались по ночам на улицах, иногда даже не ночевали дома, это — фундаментальное нападение на основы старой системы.
Сексуализированные нападения на женщин во время демонстраций, приуроченных ко второй годовщине революции в Египте, не служат простым выражением патриархального, презирающего женщин общества. Вместе с нападением на сексуальную независимость женщин преступники покусились на суть революции. Ибо два года назад речь шла не только о свержении диктатора и о демократических выборах в парламент и правительство. В сущности, речь шла о борьбе против патриархальных структур арабского общества. Хосни Мубарак должен был быть свергнут как политический отец. Но точно так же гнев революционеров был направлен и против множества маленьких Мубараков и, в конечном итоге, против позиции отца в семье. Женщины, сущностно участвовавшие в революции, даже если их было и меньше, чем мужчин, воплощали собой этот протест. То, что они вообще существуют, что оставались по ночам на улицах, иногда даже не ночевали дома, это — фундаментальное нападение на основы старой системы.