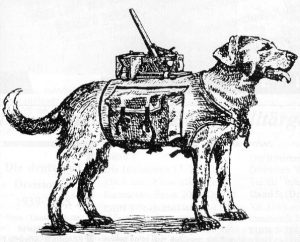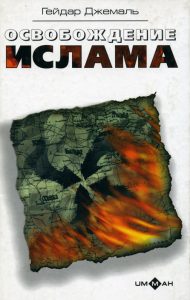Между тем, в Иране снова протесты. Если точнее, то они продолжались всё это время, прошедшее с зимних протестов. Напомним: новая волна социальных протестов началась в конце декабря 2017 г. довольно консервативной местности Мешхед, где шиитские мракобесы раскачивали народ против актуального режима, против всяческих богопротивных послаблений и либерализаций. Видение проблемы клириками, конечно интересное: Рухани — это приветливое лицо бесчеловечной клерикальной деспотии, количество казней в стране выросло по сравнению с периодом правления Ахмадинеджада, зато во внешней политике Рухани не так яро борется с сионистско-американским империализмом, с ним можно и поговорить. За то и любят и чтят европейские наци Ахмадинеджада больше.
Ну так вот, клерики тогда потеряли контроль над разволновавшейся толпой, у толпы интересы были попроще: инфляция, растущие цены на продукты питания ит.п. Дальше — больше: начались претензии к властям за вот то самое бабло, которое они вымарщивают из мирового сообщества при помощи своей атомной сделки. Можно было патриотично и антиимпериалистично вложить его в родную инфраструктуру, допустим, но Исламская республика Иран предпочитает спонсировать шиитские бригады в Сирии и Ираке. Со стратегической целью, конечно, выйти к границам Израиля и таки воплотить в реальность свои эсхатологические антисемитские мечты. Да и от разработок атомного оружия Иран, кажется, на протяжение всего этого времени не отказывался, продолжая получать от мирового сообщества откупные. А зачем улучшать свою бренную жизнь, если есть шанс посредством ядерного джихада коллективно отправиться в Джаннат, где будет всё? И к израильской границе, они, можно сказать, уже подобрались…
С этой перспективы, опять же, примечательно, кто и как отреагировал на те зимние бунты, прокатившиеся практически по всей стране. Такие «рассадники терроризма на Ближнем Востоке» по экспертному мнению iran.ru, как США и Израиль, поддержали выступления иранского населения. А вот в этих наших Европах всё было куда сумрачней: никто не нашёл в себе смелости критиковать нелюбимого, но, тем не менее, весьма ценимого экономического партнёра. Маркон даже пожурил американского коллегу за поддержку антиправительственных безобразий. Меркель может позволить себе время от времени повторять мантру объединённой и похорошевшей постнацистcкой Германии о том, что безопасность Израиля является частью государственного интереса ФРГ. Но поссориться с Ираном — так кому ещё продавать в таких количествах строительные краны, посредством которых шиитские мракобесы делают особенно низменных людишек ближе вечным божественным ценностям? Вообще, в стране победивших духовных скреп категорически нельзя бухать, плясать и трахаться, т.е. хоть ловить хоть какую-то толику своего личного счастья в земной жизни — нужно только молиться, поститься и слушать радио «Тегеран».
Они даже пытались перенаправить протесты в привычное русло погромов, тому есть свидетельства. Это дело привычное и используется практически всеми арабскими деспотами и исламскими мракобесами в непонятной ситуации — практически сразу после свержения Мубарака Мусульманские братья пытались устроить старый добрый марш на Аль-Кудс (Иерусалим). Но восстания начались там же, где закончились в 2009-м, со стачек, сжигания портретов любимых аятолл, нападения на полицейские участки, проклятий в сторону не только клерикалов, но и их религии вообще (в Иране всё ещё сильны до-исламские культы, зороастризм, например).
Режим, конечно, ответил репрессиями, но ни стачки, ни более мирные протесты, ни периодическая эскалация насилия никуда не делись. Это только видимость, что протесты благополучно закончились к середине января. C 16-го мая улицы города Казерун выглядят как после военных действий. «Beware of the day we get arms», скандировали демонстранты. Протесты в Бане, блакада железнодорожных путей в Араке, забастовки учителей, крестьян, студентов, водителей по всей стране, лозунги «Marg bar setambar, dorud bar kargar» (Смерть угнетателю, да здравствует рабочий) во время первомайских демонстраций и т.д. и т.п.
Презрение к индивидуальной жизни, к счастью на Земле — это то, что роднит фашистов, исламистов и этатистов всей мастей. Против них, в пользу жизни совершаются революции. В том числе и в Иране, где исламская революция была лишь контрреволюцией на упреждение. А о роли иранских левых в ней ещё предстоит поговорить. «Они идут сверху вниз, от высшего к низшему, от сложного к простому. Они начинают Богом, представленным в виде личного существа или идеи, и первый же шаг, который они делают, является страшным падением из высших вершин в грязь материального мира; от абсолютного совершенства к абсолютному несовершенству; от мысли о бытии или скорее от высшего бытия к небытию. (…) материализм исходит от животности, чтобы установить человечность; идеализм исходит от божественности, чтобы установить рабство и осудить массы на безысходную животность». (Михаил Бакунин, «Бог и государство»)
Прогнозы в этом случае — дело бесполезное и безблагодатное. В худшем случае — бегство вперёд, в самое пекло сирийской войны и возможной войны с Израилем. В лучшем — определённо можно сказать только, что Россия в таком случае потеряет важного союзника в регионе и пример победивших духовных скреп. Обо всём этом вам на сайте iran.ru не расскажут, но популярно объяснят, что дни «сионистского режима» сочтены.
P.S. На всякий пожарный напомню, что термин «исламофобия» используется аятоллами для патологизации и дискриминации критики своего режима. Применялся против диссидентов иранской диаспоры зарубежом и против Салмана Рушди, в частности. Перенимается левыми с терминальной стадией постмодернистского разжижения мозга. (Вот это была патологизация, да!)
 9 октября за пару минут до полудня Штефан Баллиет припарковался недалеко от синагоги в немецком городе Халле, приготовил камеру для интернет-стрима и сделал следующее заявление на английском: «Hey, my name is Anon. And I think the Holocaust never happened». За такими непосредственными угрозами, как феминизм и миграция, якобы скрывается главный враг — «the Jew». Рядом с ним в машине — самодельное оружие и несколько килограммов взрывчатки. Через несколько минут он прибывает к синагоге, в которой по случаю праздника Йом Кипур находятся более пятидесяти человек, объявляет: «Nobody expects the internet SS», — паркуется и несколько минут пытается проникнуть туда.
9 октября за пару минут до полудня Штефан Баллиет припарковался недалеко от синагоги в немецком городе Халле, приготовил камеру для интернет-стрима и сделал следующее заявление на английском: «Hey, my name is Anon. And I think the Holocaust never happened». За такими непосредственными угрозами, как феминизм и миграция, якобы скрывается главный враг — «the Jew». Рядом с ним в машине — самодельное оружие и несколько килограммов взрывчатки. Через несколько минут он прибывает к синагоге, в которой по случаю праздника Йом Кипур находятся более пятидесяти человек, объявляет: «Nobody expects the internet SS», — паркуется и несколько минут пытается проникнуть туда.