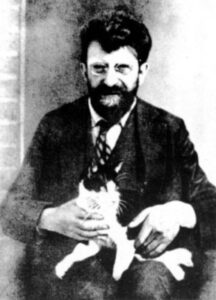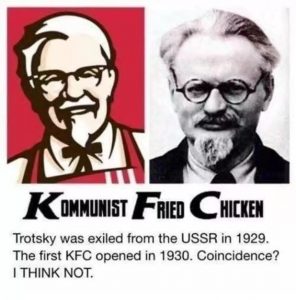Йоахим Брун
Рабочий класс либо революционный, либо он не существует.
Карл Маркс, 1865
Труд есть религия социализма.
Фридрих Эберт, 1918
Революционные движения европейского пролетариата вспыхивают в эпоху между 1870-м и 1936-м годами, во время, которое начинается с Парижской коммуной, затем достигает своего апогея в немецкой Ноябрьской революции, итальянском «biannio rosso», восстанием в российском Кронштадте в 1921-м, чтобы навсегда завершиться в 1936-м году вместе с Испанской революцией. Все эти движения доказывают, что организации пролетарского класса, его партии и профсоюзы не способны понять ни его сути, ни его сущностного интереса, т.е. не умеют выразить их и воплотить. Более того, эти организации трансформируют класс в сословие временно занимающихся капитально-продуктивными задачами государственных граждан; они превращают классовую борьбу в смазочное средство для накопления. Но и сам класс не понимал себя, когда назначил эти организации своими интерпретаторами и адвокатами, когда он настаивал на том, чтобы его интерес, т.е. «экономику труда» (Маркс) признали в форме права и при помощи государства. Хотя таким образом класс обращается против капиталистических отношений в их тотальности, одновременно против эксплуатации и власти как в только в таком виде становящейся практической «критике политической экономии», он восстаёт одновременно против капитала и суверенитета как против всего лишь различных проявлений идентичного, негативного в себе общественного отношения.
Но остаётся проблема центральности, в том числе и организационной: снятие политического суверенитета капитала требует противостояния ему на равных, его упразднения как социально действительного. «Диктатура пролетариата» в виде якобинской, централизованной и военизированной кадровой партии – это ответ воинствующего крыла социал-демократии, против которого подлинные теоретики класса выдвинули идею «пролетарского антибольшевизма», а также: «марксистского антиленинизма» и мобилизовали практику советов. Именно советы должны были проводить аутентичную самоинтерпретацию класса и при этом решить проблему центральности, решаемости и социальной обоснованности. Подобно тому, как партийная форма призвана авторитарно приписывать и диктовать эмпирическим трудящимся объективно-научное классовое сознание сверху, так и форма советов должна обобщать и заострять эмпирическое сознание трудящихся снизу до его революционной истинности: Не возникает вопроса, какая концепция является более эмансипативной и правдивой; но также нет сомнений и в том, что ни та, ни другая концепция не могут разрешить взаимоотношений между классом и личностью, вопроса о сущности класса и эмпирии наёмного труда, о правде капитала и возникающей идеологии о, например, «достойной оплате труда», а скорее только мечутся в этой дилемме. Дедукции авторитарного, «научного социализма» как и индукции антиавторитарного коммунизма лишь ходят вокруг да около этих проблем. Это заставляет обе стратегии, авторитарную и либертарную, понимать сущность класса, рабочей силы как изначальной социальной силы, которая лишь отчуждает себя в капитале, как нечто, что не тождественно самому себе и которое не осознает себя, которая составляет общество, но только без сознания. Капитал же, напротив, должен был быть производным и иллюзией, оккупацией и высокомерием. Следовательно, как не понята продуктивность политической формы, т.е. её способность к трансформации; не понята и производительность экономической формы: её способность к абстракции и субсуммации. Всё это делает ленинизм столь же устаревшим, сколь и коммунизм советов вышедшим из моды.
Однако, когда материалистическая критика рабочего класса ещё, возможно, могла помочь, рэтекоммунисты из фракций официального рабочего движения СДПГ и КПД занимали наиболее передовую позицию. Не только потому, что в своих текстах, как Вилли Хун, указывали на этатизм социал-демократии и предостерегали от идеологической навязчивой идеи, что государство – понимаемое только как принцип – является воплощением и проводником народной воли; не только потому, что начиная с 1917-го года, с тех пор как Роза Люксембург написала свою книгу о русской революции, они объясняли сначала ленинизм, а затем, как его наследника, и сталинизм как производственные отношения государственного капитализма; не только потому, что они развили принцип советов как самоорганизации и самоуправления пролетариата, нет — их авангардизм заключается главным образом в том, что они впервые со времён утопического социализма, а также по эту сторону «научного социализма», они впервые изложили «Основные принципы коммунистического производства и распределения». В 1930-м г., за три года до так называемого так называемого нацистского «захвата власти». Именно такие авторы, как Антон Паннекук, Герман Гортер и Карл Корш, развили содержание коммунизма как безгосударственного и бесклассового мирового общества, а затем, после 1945 года и в почти полной изоляции, Кайо Брендель, Пауль Маттик и некоторые другие. Continue reading