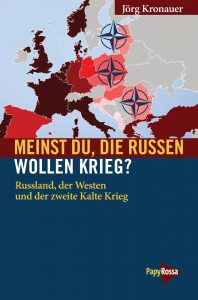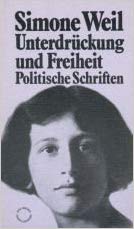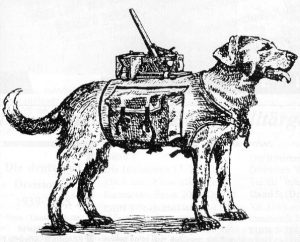Вот хороший французский фильм, хотите верьте, хотите – нет. В порядке исключения, не о тоскливой семье из белого среднего класса, решающей в отпуске на средиземноморском побережье свои накопившиеся сексуальные проблемы. А о наболевшeм. Вы же, нежные бляди, любите фильмы о наболевшем, правильно? Ну, то-то же.
Вот хороший французский фильм, хотите верьте, хотите – нет. В порядке исключения, не о тоскливой семье из белого среднего класса, решающей в отпуске на средиземноморском побережье свои накопившиеся сексуальные проблемы. А о наболевшeм. Вы же, нежные бляди, любите фильмы о наболевшем, правильно? Ну, то-то же.
Так вот, душевная история про ментов-решал, которые решают свои (именно свои!) повседневные проблемы на окраине Парижа. Страдают при этом, конечно. Люди, всё-таки. Но дорешались они до полнейшeй катастрофы, когда уже либо в ножки кланяйся, либо вызывай национальную гвардию на танках и дави просто всех в пизду, чтоб о твоих проёбках больше никто и не вспомнил. Всю эту романтику гетто и нищеты я тут в академических терминах раскрывать не буду, на это есть другие талантливые авторы пустословия; просто, кто ещё не посмотрел, посмотрите. Экзотика, насилие, “чужаки”, живущие рядом с “местными” на протяжение поколений, иерархии эксплуатации в группах угнетённых и т.д. и т.п. Кто помнит фильм “Ненависть” 1995-го года, это как раз в том духе.
Я, вот, лично в кинцо успел сходить до ёбаной пандемии, пока любимый кинотеатр ещё работал.
Ну, так речь-то не обо всём об этом даже. Вот всё это восстание пролетаризированных – отлично. Обожаю, когда копы получают от детворы по еблетам. Больше этого, угентённым не хватает памяти!
Но после просмотренного у меня сформулировался не столько вопрос, сколько утверждение. Если единственный “приличный” человек во всём фильме, человек, если угодно, “с сердцем”, “со стержнем”, – это салафит из шаурмачечной на углу, то дела у революции плохи. Нет, они хуёвы. That’s all, folks.