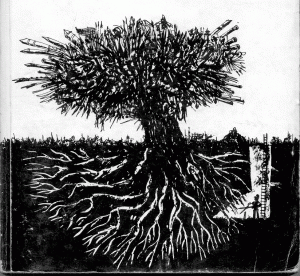[Ну, а мы продолжаем спасать культурное наследие «Последнего хайпа» для грядущих поколений. Панк и автономия, контрреволюция и индустрия культуры. – liberadio]
(К тридцатилетию 1977-го года)
Йорг Финкенбергер
Окружающая нас реальность возникла, в основных своих чертах, в районе 1977-го года, если понимать под реальностью конкретное прохождение границы между контрреволюционным порядком с одной стороны и стремительно уменьшающимися свободными пространствами того, что некогда было восстанием — с другой.
Понятие «контрреволюционный» имеет в этом смысле вполне точное значение, и сегодняшний порядок является ничем иным как ответом власти на конкретную угрозу, принявшим общественную форму постоянного ответного нападения. То, что этот порядок всё ещё узнаваем как повседневный террор, из которого этот порядок, по сути, и состоит, является предпосылкой для его упразднения.
1. 1968-й год не был делом западно-берлинских студентов, и лишь из вдвойне искажённой перспективы, провинциально-немецкой и социальной перспективы нового среднего класса, может показаться, что речь тогда шла о чрезвычайных законах или о реформах университетов. К сожалению, именно этот новый средний класс из бывших студентов писал историю; этот класс воображает, что делал тогда историю.
В итальянском языке есть понятие «68-й рабочих», и взгляд на международную одновременность показывает французский май 68-го года лишь как кульминационный момент того дела, которое от Аргентины до Заира обладало одними и теми же чертами, постольку было направлено против жизни, которая, по сути, повсюду была одинаковой.
Но специфические формы поражения, специфические формы контрудара различались от страны к стране. Государственные перевороты и бойни, деиндустриализация и обнищание, постмодернизм и New Economy наложили на общество свой отпечаток: но они немногим старше меня. Continue reading