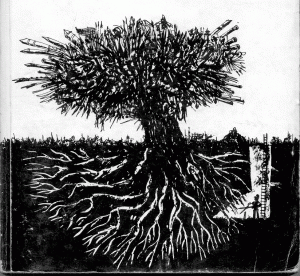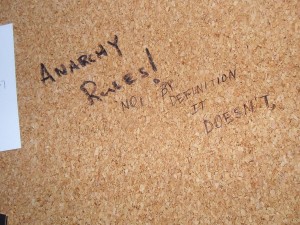Деконструктивизм как применимая к сапатизму теория
Торстен Беверниц
Существуют демоны, которых боятся даже самые бородатые старики-анархисты. Самый (пост)модернистский демон из них носит имя Деконструктивизм, ибо это собрание (анти)теорий вполне ставит под вопрос даже этику, на которой зиждется традиционное анархистское восприятие мира. Подвержение сомнению всякой идентификации, критика субъекта – как из всего этого должен получаться революционный субъект?
С 70-80-х годов анархизм мучает ещё одно приведение: приведение национальных освободительных движений. С одной стороны можно и не совсем отказываться от симпатий к этим движениям, т.к. они, в конце концов, делают то, что лежит в основе всех анархизмов: они берут свою судьбу в собственные руки. С другой стороны – мешают рамки, которые эти группы для себя выбирают: уже сконструированная или ещё конструируемая нация.
Но с восстанием ELZN 01.01.94 года в фокус внимания левых и склонных к анархизму в метрополиях попала герилья, которая дала этим рамкам новое определение. Сапатизм, которого не существует, ссылался и ссылается на мексиканскую нацию, способ и вид отсыла, тем не менее, нов и одним он не является точно: националистским.
А самым старым призраком, от которого у анархистов и анархисток бегут мурашки по коже, является Карл Маркс. Он овеян мифами, как и полагается уважающему себя призраку, а анархисты и анархистки пробуют себя на протяжении поколений в экзорцизме, пытаясь заместить Маркса собственными теоретиками, что временами приводит к странным плодам. Для анархистов и анархисток Маркс символизирует авторитарные системы так называемого «государственного социализма» и социал-демократии, он считается в первом Интернационале (IAA) противником Бакунина, интегративной фигуры анархизма, и всякого либертарианца и либертарианку хватает кондрашка при упоминании понятия «диктатуры пролетариата» – терминология, кстати, которая у Маркса проскакивает с краю и нуждается в интерпретации. Continue reading