СОЛ НЬЮМЭН
(Anarchism and the Politics of Ressentiment by Saul Newman)
 «Говоря на ухо психологам, в случае если им будет охота изучить однажды ressentiment с близкого расстояния, – это растение процветает нынче лучшим образом среди анархистов и антисемитов, как, впрочем, оно и цвело всегда, в укромном месте, подобно фиалке, хотя и с другим запахом» (Ф.Ницше, К генеалогии морали. Полемическое сочинение).
«Говоря на ухо психологам, в случае если им будет охота изучить однажды ressentiment с близкого расстояния, – это растение процветает нынче лучшим образом среди анархистов и антисемитов, как, впрочем, оно и цвело всегда, в укромном месте, подобно фиалке, хотя и с другим запахом» (Ф.Ницше, К генеалогии морали. Полемическое сочинение).
1. Изо всех политических движений девятнадцатого столетия, на которые клевещет Ницше – от социализма до либерализма – он оставляет самые ядовитые слова для анархистов. Он называет их «анархистскими псами», которые бродят по улицам европейской культуры, портретом «морали стадных животных», который характеризует современную демократическую политику. Ницше видит анархизм отравленным в самом корне чумным семенем ressentiment – злобная политика слабых и ничтожных, мораль рабов. Высказывает ли Ницше здесь просто своё консервативное отвращение к радикальной политике, или он диагностицирует реальную болезнь, которая идейно заразила нашу радикальную политику? Несмотря на очевидные предрассудки Ницше относительно радикальной политики, это эссе отнесётся серьёзно к его обвинениям в сторону анархизма. Оно исследует эту хитрую логику ressentiment относительно радикальной политики и анархизма, в частности. Оно попытается сорвать маски со скрытых производных ressentiment в манихейской политике у классических анархистов вроде Бакунина, Кропоткина и Прудона. Это не делается с целью отказаться от анархизма как от политической теории. Напротив, можно утверждать, что анархизм стал бы более актуальным в современной политической борьбе, если бы был предупреждён о логике ressentiment в своём собственном дискурсе, в частности в эссенциалистских идентичностях и структурах, которые он содержит.
Рабская мораль и ressentiment
2. Ressentiment диагностицирован Ницше как состояние нашей современности. Чтобы понять ressentiment, как бы то ни было, нужно понять отношения между моралью хозяев и моралью рабов, из которых и возник ressentiment. Труд Ницше «Генеалогия морали» – это исследование о происхождении моральности. Для Ницше тот способ, которым мы интерпретируем и привносим ценности в мир обладает историей – его происхождение зачастую связанно с жестокостью и далеко от ценностей, которые оно производит. Ценность «добра», к примеру, была изобретена аристократами и высокопоставленными людьми, чтобы льстить себе, в отличие от обычных, низкопоставленных людей и плебеев. Это было чертой хозяев – «хороший», и противопоставлялась ей черта рабов – «плохой». Так что, согласно Ницше, в этом пафосе дистанции между высоко-рождёнными и низко-рождёнными, в этом абсолютном чувстве превосходства и были рождены ценности.
Как бы то ни было, уравнение хорошего и аристократического стало подтачиваться бунтом рабов в ценностях. Это рабское восстание, согласно Ницше, началось у евреев, которые учинили переоценку ценностей:
3. «Именно евреи рискнули с ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку аристократическое уравнение ценности (хороший = знатный = могущественный = прекрасный = счастливый = боговозлюбленный) – и вцепились в это зубами бездонной ненависти (ненависти бессилия), именно: “только одни отверженные являются хорошими; только бедные, бессильные, незнатные являются хорошими; только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые суть единственно благочестивые, единственно набожные, им только и принадлежит блаженство, – вы же, знатные и могущественные, вы, на веки вечные злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные, и вы до скончания времен будете злосчастными, проклятыми и осужденными!”» (Ф.Ницше, К генеалогии морали. Полемическое сочинение) Continue reading →

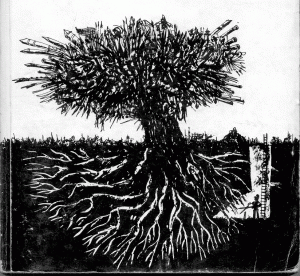
 От Каджаров до Реза-Шаха
От Каджаров до Реза-Шаха Незадолго после того, как удалось свергнуть Мубарака, египетская революция потерпела огромное поражение: её первое поражение, но сумрачное знамение того, что ещё может случиться. С позволения военного командования, которому революция перепоручила судьбу страны и, более того, стабильности ради, судьбу революции, Юсуф Карадави проповедовал перед своими последователями на площади Тахрир, которую для этого очистили от революции. Пожилой эмигрант, известный предводитель исламистов, руководил чем-то, что отчасти напоминало богослужение, от части — фашистский марш, где десятки тысяч, если не сотни тысяч скандировали: «Мы маршируем в Аль-Кудс, миллионы мучеников!»
Незадолго после того, как удалось свергнуть Мубарака, египетская революция потерпела огромное поражение: её первое поражение, но сумрачное знамение того, что ещё может случиться. С позволения военного командования, которому революция перепоручила судьбу страны и, более того, стабильности ради, судьбу революции, Юсуф Карадави проповедовал перед своими последователями на площади Тахрир, которую для этого очистили от революции. Пожилой эмигрант, известный предводитель исламистов, руководил чем-то, что отчасти напоминало богослужение, от части — фашистский марш, где десятки тысяч, если не сотни тысяч скандировали: «Мы маршируем в Аль-Кудс, миллионы мучеников!» Das ist beinahe eine der Hauptlosungen der endlich beginnenden Antikriegskampagne. Und sie scheint nicht gut gewählt zu sein. Eigentlich ist es ein Problem bei fast allen Losungen. Wenn mensch im Wort „noch“ („ещё“ – A.d.Ü.) fünf Fehler machen kann, so wundert mensch sich, wenn sich nicht deutlich mehr Fehler in sechs Wörtern finden. Was ist das aber, was uns als Fehler scheint?
Das ist beinahe eine der Hauptlosungen der endlich beginnenden Antikriegskampagne. Und sie scheint nicht gut gewählt zu sein. Eigentlich ist es ein Problem bei fast allen Losungen. Wenn mensch im Wort „noch“ („ещё“ – A.d.Ü.) fünf Fehler machen kann, so wundert mensch sich, wenn sich nicht deutlich mehr Fehler in sechs Wörtern finden. Was ist das aber, was uns als Fehler scheint?