Йорг Финкенбергер
Прошло примерно полтора столетия с тех пор как был написан тезис, что освобождение рабочего класса может быть лишь делом самого рабочего класса, и прошедшее с тех пор время не особенно приглашало к тому, чтобы выдать какой-либо ясный комментарий к этому тезису. Следовательно, не стоит ожидать, что сегодня он понимается лучше, чем тогда, или даже хотя бы столь же неверно.
1.
Мне надое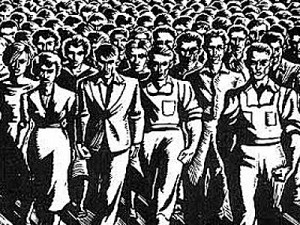 ли дебаты о пролетариате, не только потому, что они на протяжение десятилетий остаются теми же, без каких-либо признаков улучшения; или потому, что все, кто мог бы что-то сказать по этому поводу, считают дебаты законченными, а те, прежде всего, кто в таких дебатах участвуют, не могут сказать ничего особенного по теме; или потому, что каждые пару лет тот или иной из возможных и неверных ответов снова вводится в употребление при большой затрате сил и ещё большем влиянии на постоянно и безошибочно впечатлённую публику. Я не могу выносить эти дебаты, в первую очередь, т.к. они всегда и, как кажется, закономерно неверно ведутся, что кажется судьбой всех так называемых «дебатов».
ли дебаты о пролетариате, не только потому, что они на протяжение десятилетий остаются теми же, без каких-либо признаков улучшения; или потому, что все, кто мог бы что-то сказать по этому поводу, считают дебаты законченными, а те, прежде всего, кто в таких дебатах участвуют, не могут сказать ничего особенного по теме; или потому, что каждые пару лет тот или иной из возможных и неверных ответов снова вводится в употребление при большой затрате сил и ещё большем влиянии на постоянно и безошибочно впечатлённую публику. Я не могу выносить эти дебаты, в первую очередь, т.к. они всегда и, как кажется, закономерно неверно ведутся, что кажется судьбой всех так называемых «дебатов».
Если теория служит товарной формой понятия, то дебаты — это обмен товаров, только при этом никто не становится богаче. Но речь не о том; мы, левые, люди непритязательные; речь о том, чтобы при сравнении выглядеть не так бедно, как конкуренция.
Сторона А «позитивно ссылается на пролетариат», как говорит о ней сторона Б; что может быть трюком, которого за стороной А лучше никому не повторять. Это напоминает способность засовывать свою голову в свою же задницу. Напротив, сторона А уверяет, что сторона Б «распростилась с пролетариатом», что, в свою очередь, является неожиданным выходом на пенсию, которого никто от стороны Б не ожидал. Если быть знакомым с обеими сторонами или, хотя бы, с их базисом, который всё же на пенсию не вышел и продолжает писать бесплатно, то абсурдность спора заключается в том, кто и с кем спорит.
Но впечатление обманчиво, т.к. на самом деле абсурдность заключается в чём-то другом. Присмотримся поближе; мы увидим, что абсурдность заключается не в обеих сторонах, которые, кстати, всегда будут разными, а в самом предмете спора, в «пролетариате», что бы это ни было, и возможно, тогда нас посетит светлая мысль (а может, и две) о спорящих сторонах и о том, почему они занимаются тем, чем занимаются.
2.
Пролетариат является, как уверяет нас Маркс, классом, который уже является упразднением всех классов, классом, в котором все позитивные принципы этого общества проявляются как своя противоположность: свобода как принуждение, собственность как нищета и т.д. Единственный класс, который мог бы стать классом сознания, единственный класс, который мог бы стать классом отмщения, классом отрицания, партией разрушения. Наши сегодняшние потомки ситуационистов, например, в своё время, которое, кажется, не давало особенных поводов для надежды, обнаружили однажды эти слова в трудах Маркса и понадеялись, что смогут обратить невероятное упрямство этих слов против интегрированной и практикующей академической марксологии и против самих традиционных контрреволюционных левых. Continue reading
 Мир, в котором мы сегодня живём, никогда не закончится. Ибо мы уже живём после конца света. Катастрофе, которой всё равно все опасаются, больше не надо происходить. То, что всё продолжается, как раньше, после всего, что было, это и есть катастрофа.
Мир, в котором мы сегодня живём, никогда не закончится. Ибо мы уже живём после конца света. Катастрофе, которой всё равно все опасаются, больше не надо происходить. То, что всё продолжается, как раньше, после всего, что было, это и есть катастрофа. Обычно критики говорят, что реальность не соответствует идеалам. Если есть человеческое право на жизнь и телесную неприкосновенность, то как можно смиряться с тем, что посредством военного вмешательства Запада убивается больше людей, чем посредством жестокостей диктаторов и террористов? США — как говорят — используют права человека лишь как прикрытие для совершенно обычных властных и экономических интересов: их интересует не положение населения, а нефть. А поэтому — таково продолжение аргументации — используются двойные стандарты: повсюду, где диктаторы ведут себя примерно и, к примеру, разрешают на своей территории размещать боевые вертолёты США (как Турция и Саудовская Аравия), самозваная мировая полиция ничего не имеет против грабежа, преследования и убийства целых групп населения или против диктатуры.
Обычно критики говорят, что реальность не соответствует идеалам. Если есть человеческое право на жизнь и телесную неприкосновенность, то как можно смиряться с тем, что посредством военного вмешательства Запада убивается больше людей, чем посредством жестокостей диктаторов и террористов? США — как говорят — используют права человека лишь как прикрытие для совершенно обычных властных и экономических интересов: их интересует не положение населения, а нефть. А поэтому — таково продолжение аргументации — используются двойные стандарты: повсюду, где диктаторы ведут себя примерно и, к примеру, разрешают на своей территории размещать боевые вертолёты США (как Турция и Саудовская Аравия), самозваная мировая полиция ничего не имеет против грабежа, преследования и убийства целых групп населения или против диктатуры.